Жажда непризнания
Глеб Напреенко о четырех ответах на вопрос «что такое художник?», о морозных узорах и о том, где искать радикализм в искусстве
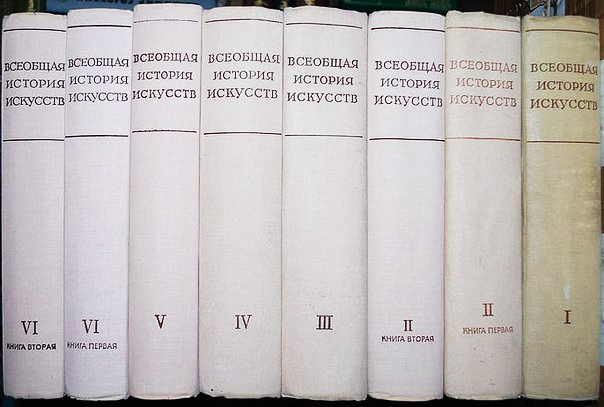
Тема восьмого номера «Разногласий» — «Что такое художник?». Глеб Напреенко как главный редактор журнала пытается понять, как отвечать на такой вопрос.
Художник, работающий в стол, о котором никто не знает, — художник ли он? Но вот о нем узнали — и теперь уже он наверняка художник — и не просто в настоящем времени, но и в прошедшем — теперь он уже был художником и раньше. Настоящее меняет прошлое. Первобытный пещерный художник, средневековый иконописец, «душевнобольные» авторы, обитавшие в психиатрических клиниках начала XX века, — все они сегодня задним числом вписаны в историю искусств музеями, университетами, искусствоведами и журналистами [1]. Художник становится художником перед Другим, который его в качестве художника опознает. Причем разные Другие делают это по-разному — по-разному определяют, что есть художник: художник для музея, художник для другого художника, художник для критика, художник для историка искусства, художник для фонда или художник для зрителя — все это разные способы актуализации того, что означает «быть художником» [2]. «Быть художником» — это отношение: быть художником перед кем-то. И это все? Неужели так просто?

Вовсе нет. Рассмотрим некоторые проблемные ситуации. Например, те, в которых отношения с Другим сомнительны, где вообще спорно, наличествует ли Другой. Как в случае с морозными узорами на стекле: учительница начальных классов объясняет детям, что это «мороз рисует»; или — вариация на ту же тему — ученый-генетик называет молекулу ДНК «прекрасным творением природы» (ситуация 1). С другой такой ситуации я начал этот текст: художник, работающий в стол, не показывающий никому своих работ… Пусть это, более того, художник-психотик, никогда ни с кем не разговаривающий, но постоянно рисующий серии похожих друг на друга работ, классифицированных случайно обнаружившими их искусствоведами как «ар-брют» (ситуация 2).
 Работа Александра Лобанова. Пример «арт-брюта», созданного «душевнобольным» автором и неоднократно выставлявшегося кураторами на площадках современного искусства
Работа Александра Лобанова. Пример «арт-брюта», созданного «душевнобольным» автором и неоднократно выставлявшегося кураторами на площадках современного искусстваДругой тип проблемных ситуаций — в которых связь автора с Другим, несомненно, установлена, однако этот Другой отказывает предполагаемому художнику в признании. Например, о некоем живописце критик высказывает суждение «это салон, это не искусство, а ремесло» и приравнивает его к «уличным рисовальщикам копеечных портретов» (ситуация 3). Или художник-акционист устраивает акцию, получающую известность благодаря СМИ, но при этом их читатели задаются вопросом: «Искусство ли это?» — причем многие уверены в отрицательном ответе. Или художник совершил некий элементарный жест, допустим, стерев ластиком чужое произведение, и многие также сомневаются в том, что это искусство, и повторяют: «Я тоже так могу» (ситуация 4).
Во всех четырех перечисленных ситуациях (ар-брют, ДНК, салонный художник, современный радикальный художник) может быть совершен акт признания (или непризнания) художника: высказывания «природа — это художник, сотворивший морозные узоры и ДНК», «Александр Шилов и Сергей Андрияка — виртуозные живописцы нашей эпохи» или «Роберт Раушенберг, стерев рисунок Де Кунинга, совершил художественный акт» выполняют одну и ту же функцию признания.
 Роберт Раушенберг. Стертый рисунок Де Кунинга. 1953
Роберт Раушенберг. Стертый рисунок Де Кунинга. 1953Однако отношение Другого, способного произнести такие высказывания, к «художнику» во всех четырех случаях разнится — и соответственно понятие «художник» раскрывается ими на разных уровнях. Наиболее сложно эти отношения устроены в случае современного радикального художника.
Чтобы пояснить, о какой сложности идет речь, процитирую фрагмент из статьи Жака Лакана «Ниспровержение субъекта и диалектика желания в бессознательном у Фрейда»: «Заметим, между прочим, что Другой, определяемый как место Речи, с не меньшим правом выступает и в качестве свидетеля Истины. Ведь без измерения Истины уловки Речи ничем не отличались бы от используемых животными в боях или брачных играх обманных движений, от которых они, между тем, отстоят очень далеко. Движения эти, создающие картину воображаемой ловли, входят составной частью в игру сближений и разрывов, образующую тот первоначальный танец [danse], в котором обе эти жизненно насущные ситуации получают свое ритмическое членение и которым обусловлены движения участвующих в нем партнеров — то, что я осмелился бы определить как их dansité [3]. Животное, правда, способно на притворство и во время бегства: ему удается порою уйти от погони, дав ложный след. Тем самым давая нам повод приписать ему благородство, способное воздать должное ритуальному элементу охоты. Но притворяться, что оно притворяется, — на это животное не способно. Оно не может оставить след, обманный в том смысле, что, будучи истинным, он должен создать впечатление ложного. Как не может оно и уничтожить свои следы — ведь, сделав это, оно превратило бы себя в субъект означающего».
«Книга природы», которая не знает, что себя пишет.
Радикальный художник, идя навстречу отказу Другого в признании его настоящим художником, совершает нечто, подобное тому, что Лакан описывает как сугубо человеческую способность «притворяться, что притворяешься», — ведь именно через отказ в признании такой автор получает возможность быть художником. Природа ни на что подобное не способна — молекула ДНК не содержит в себе никакого вопроса Другому. Что не отменяет того, что ученый способен эту молекулу прочесть и ей восхититься, как и вообще «книгой природы», которая не знает, что себя пишет, — не знает о собственном знании, пока не появляется человек.
Случай художника-психотика, рисующего для себя, и случай салонного художника занимают промежуточное положение между «творчеством» природы и актом радикального художника — Другой в них присутствует, но редуцирован. В случае психотика, рисующего в стол однообразные серии картинок, Другой вписан в его возобновляемую продукцию — такой психотик постоянно конструирует воображаемого Другого сам внутри себя и внутри своего искусства, подражая некоему однажды найденному способу производства образов. Искусство здесь выполняет древнюю функцию повторяемого ритуала, скрепляющего мироздание, запускающего вновь и вновь круговорот жизни и предотвращающего его срыв и катастрофу. В противоположность тому жест радикального художника скорее можно назвать антиритуалом — пропуском или поломкой на том месте, где ожидают повторения. Такой срыв повторения выводит на сцену искусства акт высказывания как проблему. Напротив, психотик и его искусство полностью погружены в язык — но язык как текст, как систему значений, в которой акты высказывания теряются и не прочитываются.
 Чайники. Работа Сергея Андрияки
Чайники. Работа Сергея АндриякиВ случае салонного (или академического) художника Другой редуцирован к функции признания виртуозности. Чей-либо отказ или сомнение в статусе «художника» для такого автора (условно Александра Шилова или Сергея Андрияки) неприемлемы, потому их необходимо оспорить или проигнорировать — в то время как в случае современного радикального художника они скорее афишируются и служат поводом для гордости. Салонный (или академический) художник вступает в отношения с Другим через требование и его исполнение — например, через требование исполнить пожелание заказчика или требование мастерства, соответствие которому, как предполагается, должно гарантированно приводить к успеху и признанию. Радикальный художник пытается (обычно безуспешно) выпрыгнуть за границы соответствия и гарантированных эффектов, установив с Другим более игривые отношения — отношения, в которых стоит вопрос о желании, а не только о требовании.
 Александр Родченко. Проект рабочего клуба. 1925
Александр Родченко. Проект рабочего клуба. 1925Советский конструктивизм и производственничество, согласно такой классификации, устанавливали отношения с Другим, аналогичные отношениям салонного искусства: отношения на уровне требования и удовлетворения потребностей, а не игривости желания. Это не должно удивлять: классификация, которую я тут произвожу, говорит не о Другом, а о характере отношений с ним. Советские конструктивисты стремились вступить в активные отношения производства со своими адресатами — пролетариями, но при этом руководствоваться требованиями науки, строгого расчета и экономии эффектов — без энергетических избытков или нехваток, порождающих всплески аффектов и желаний. Таким образом, ситуация 3 двойственна: в ней есть полюс буржуазного салона — и полюс крайне левого советского искусства.
Неправильно было бы понимать перечисленные четыре способа отношений с Другим (довольно нарочито сконструированные мной) как отделенные друг от друга независимые варианты ответа на вопрос «что такое быть художником». Точнее было бы сказать, что они надстраиваются друг над другом от простого (природа) к сложному (радикальный художник) и что самый сложный ответ на этот вопрос включает в себя более простые и без них невозможен. Кроме того, один и тот же автор может вступать в разные отношения с разными Другими, переопределяя тем самым свою практику.
Жест радикального художника можно назвать антиритуалом.
Предложенные мной четыре предельных случая задают разные способы смотреть на искусство, прочитывая его в разных регистрах. Формальная «история искусства без имен» в духе Генриха Вёльфлина или Алоиза Ригля прочитывает историю искусства наподобие истории эволюции природных видов: популяции одного типа (например, барочные формы) волнами сменяют другие (ренессансные формы), сами не зная, что ими движет. Знание здесь полностью находится на стороне того, кто разглядывает историю искусства, — зрителя-знатока, ученого-искусствоведа; производителями же искусства движет стихийная художественная воля (ситуация 1).
Чтобы двинуться дальше формализма, необходимо поднять вопрос о Другом в связи с актом производства искусства, а не только в связи с его восприятием. Способов понимания этих отношений работы художника с Другим может быть несколько. Например, семиотический (или антропологический) анализ прочитывает любое произведение искусства наподобие работы художника ар-брют, то есть как работу, конструирующую и воспроизводящую определенную совокупность значений — и прочитываемую как текст, погруженный в другой текст (культуру) (ситуация 2). А советская марксистская наука об искусстве 1920-х годов, в сталинское время заклейменная именем «вульгарной социологии» (Владимир Фриче, Алексей Федоров-Давыдов и др.), прочитывала произведение как плод борьбы за признание — в первую очередь в экономической форме: успех у заказчика или место на рынке искусства. «Вульгарные социологи» считали способом получения такого признания соответствие определенным социальным требованиям; таким образом, произведение искусства прочитывалось ими в логике, которую выше мы поставили в соответствие салонному художнику — и (что логично) советскому производственничеству (ситуация 3). Это касается не только «вульгарной социологии» или, шире, марксизма (например, социологии Пьера Бурдьё), но и в той или иной мере вообще социологического анализа искусства.
Интерпретативная практика, стремящаяся работать с радикальными проблемами искусства, должна сама быть радикальным искусством.
Очевидно, одно и то же произведение может быть прочитано через любую из перечисленных оптик. Но какая же интерпретативная практика соответствует «радикальному художнику» (ситуация 4)? Она должна иметь в виду проблемы акта высказывания и проблемы желания… Уж не психоанализ ли это? Но такой ответ был бы слишком поспешным. Потому что интерпретация произведений искусства средствами так называемого прикладного психоанализа обычно функционирует как разновидность семиотического разбора — как способ дешифровки-перекодировки произведений, например, через патографию, как во фрейдовском анализе Леонардо да Винчи (снова ситуация 2). Поэтому, чтобы выделить интерпретативную практику, адекватную «радикальному художнику», нам важна другая грань психоанализа, которая реализуется обычно не в его приложениях к культуре, а в конкретной работе аналитика в его кабинете наедине с анализантом (клиентом). Потому что именно там вопросы желания не просто обсуждаются, а ставятся всерьез, акты высказывания не просто именуются, но практикуются. И эта грань психоанализа, будучи выведенной за пределы кабинета психоаналитика, собственно, и оказывается радикальным искусством. Иными словами: интерпретативная практика (будь то арт-критика, история искусства или редактура журнала об искусстве), стремящаяся работать с радикальными проблемами искусства (ситуация 4), не редуцируя их, должна сама быть радикальным искусством. И никаких гарантий успеха (в отличие от практик, соответствующих ситуациям 1—3) здесь быть не может. Гарантированного одобрения от Другого («это хорошее искусство», «это хорошая статья») здесь ждать бессмысленно — в противном случае мы сводим ситуацию к парадигме салонного или невозможного сегодня советского производственного художника (снова ситуация 3).
Жизнь желания в детерминистской сетке контекстов прошлого.
Я вовсе не хочу сказать, что практики формального, семиотического или социального анализа искусства с их стилистическим, культурным или социально-экономическим детерминизмом плохи или недостаточно радикальны. Напротив, слишком часто искусство сегодня автоматически претендует на радикализм — практически любой кураторский текст к выставке, будь то в государственном музее, в коммерческой галерее или на самоорганизованной площадке, говорит о «подрыве» и «критичности». И именно трезвое напоминание о марионеточной зависимости художников от политического и экономического контекста способно обеспечить срыв такого механического приписывания жестам искусства гарантированной радикальности и осадить наивный оптимизм в отношении их освободительной силы. Здесь практики, коррелирующие с ситуациями 1—3 (творчество природы, ар-брют и салон), диалектически переходят в практику, адекватную претензиям радикального искусства (ситуация 4).
Кроме того, я не хочу сказать, что радикализм является прерогативой современного искусства. Напротив (здесь я возвращаюсь к вопросу воздействия настоящего на прошлое, с которого мы начинали), исследователь способен опрокинуть логику современного искусства на исторический материал, выявив в нем нереализованные возможности, несбывшиеся надежды, поиски альтернативы, остроумные двусмысленности и шутки, срывы железной поступи истории. Говоря иначе — обнаружив жизнь желания в детерминистской сетке контекстов прошлого, сложную игру художника с Другим и его требованиями, а не только присягу ему на верность.
[1] О мнимой непрерывности истории искусств пишет в своей статье в этом номере «Разногласий» Елена Петровская.
[2] Именно разные способы такой актуализации стали темами материалов этого номера журнала: «Что такое художник для журналиста?», «Что такое художник для философа?», «Что такое художник для фонда?» и т.д.
[3] Dansité — абстрактное существительное «танцевальность», образованное от слова danse («танец») и являющееся омофоном слова densité («плотность, насыщенность»).



