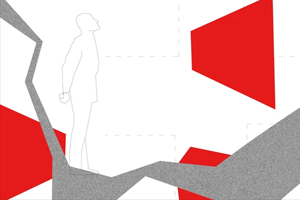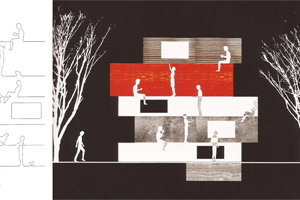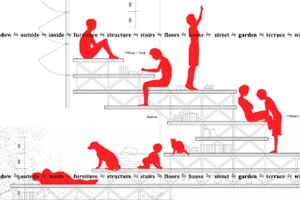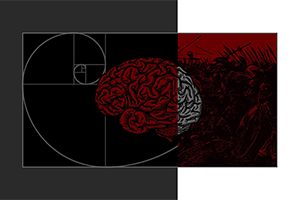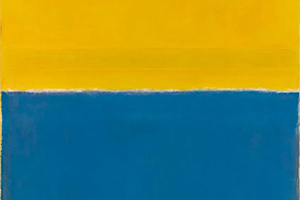О логике подлой смерти судить невозможно. Но судить ее все-таки нужно. В череде смертей последних лет, не говоря уже о последнем весенне-летнем призыве, смерть Дмитрия Брусникина — какая-то совсем уж подлая. Она кромешно завершила удар по тем, кто утверждал в отечественном искусстве верность реальности и правде, верность памяти и совести. Не буду обновлять страшный мартиролог, который в сердцах всех, кто их знал и ценил. Два чувства живут во мне с того мгновения, когда подлая SMS в метро известила о Диминой смерти. Одно охватило сразу — чувство резко накренившейся реальности, которая опрокинулась куда-то, оставив в пустоте. Другое пришло следом — священный ужас сродни восторгу: не уходят ли от нас те, кто получил особое призвание в неведомом нам мире? Сплоченный отряд избранных, исполненный многих дарований, из которых совесть и ответственность — важнейшие.
Ответственность, связанная с пониманием миссии, лежала и лежит на них, рожденных сразу после смерти Сталина.
Дима, как оказалось, был важнейшим звеном этого поколения, которое кто-то назвал «потерянным». Несправедливо. Он окончил мастерскую Олега Ефремова в 1982 году и вошел в мхатовскую труппу со своими товарищами. Многие были уже взрослыми, озаренными опытом. Так и хотел Олег Николаевич, искал в них равных себе личностей. Миша Мокеев в режиссерской группе, Саша Феклистов, Рома Козак, Саша Смирнов, Дима… На этом же курсе — Яна Лисовская, Вера Сотникова, Маша Брусникина, Полина Медведева… Тут к ним примкнула табаковская Лена Майорова.
Их первые театральные работы стали моим юношеским каноном, опытом осознания себя в цепи времен. Каждый из них был прекрасен, но герой там был один — Дима. Романтический, наполненный изнутри какой-то трепетной, чуть сентиментальной чувствительностью, высокий, тоненький и сильный, он нес в себе классическое представление о герое как о носителе харизмы, социальной, гражданской, нравственной миссии — и одновременно как о романтическом красавце, тревожащем сердца юных дев. Жаль, никто не предложил ему тогда роль Сида.
Будучи еще школьницей, я увидела его Александра Ульянова в пьесе Саши Ремеза «Путь». Забудьте об именах и жупелах. Спектакль был о другом. Милый, но хрупкий интеллигентский дом и его гордость — старший сын, дерзновенный, сильный, но уже раненый будущей своей судьбой. Оттого и трагической, что ее носитель имел пылающую совесть. Таким предстал передо мной Дима и сразу поразил. Дипломной работой Валерия Саркисова руководил Анатолий Васильев, в те годы тесно связанный с МХАТом (о его работе в «Соло для часов с боем» и репетициях «Короля Лира» с Андреем Поповым, прерванных смертью выдающегося актера, ходили легенды).
Не уходят ли от нас те, кто получил особое призвание в неведомом нам мире? Сплоченный отряд избранных, исполненный многих дарований, из которых совесть и ответственность — важнейшие.
Любимый ученик Ефремова, Дима (и не он один) очень ценил эти уроки другого мастера. Это было поколение пылающего советского распада, и все они были чувствительны к тому, что сулило спасение от маразма. Вырастали с надеждой на обновление и с ранним опытом утрат. Так, как они, во МХАТе раньше не играли. Брусникин был идеальный Алексей Турбин в спектакле Николая Скорика. Козак, Майорова, Феклистов, Смирнов, Белозеров, Варчук — все они играли с чувством пронзительной, острой тоски по утраченному дому русской культуры. Но доминантой, стержнем этого дома был Брусникин. Весь спектакль и Димина роль особенно были наивным, но яростным манифестом нового — и, как оказалось, трагического — поколения. Лена Майорова, булгаковская Елена Прекрасная, — вся полет, бесстрашие и надрыв — ушла раньше всех, буквально сгорев в огне в 97-м. В 2010-м, тоже сгорев, но уже в переносном смысле, ушел Рома.
А тогда, на рубеже 90-х, им пришлось стать мостом между разрывающимися на глазах эпохами. И все сильнее становилось ясно, что героическое начало было в Диме не проявлением амплуа или театральной позой, а глубокой человеческой сутью. Все более и более уникальной.
Спустя годы он все больше брал на себя ответственности — как и положено герою. Почти отказавшись от собственной актерской судьбы, направил всю энергию и любовь на студентов. И сделал это так, чтобы не превращать Школу-студию МХАТ в склеротическую цитадель традиций. Здесь они и встретились — «Театр.doc» и его студенты, вскоре ставшие «Мастерской Дмитрия Брусникина».
В начале 2010-х он предпринял важнейший для будущего шаг — молодые адепты Художественного театра отправились осваивать территорию подлинной, а не фиктивной реальности. Изучая технологию verbatim, с которой работали Угаров и Гремина, они пытались соединить ее с русской театральной школой. А заодно пробовали себя во всем, что создает личность, — писали пьесы, снимали видео. Открывали себя прошлому и будущему. Пели Высоцкого, читали Введенского и Хармса, осваивали новейшие тексты. Брусникин мечтал, чтобы его студенты были чувствительны к самым острым формам и принципам игры. В итоге на современной сцене появилось новое явление — «брусникинцы». Каждый их новый спектакль становился событием в театральной Москве и за ее пределами. Они только-только вошли в «Практику» и готовились стать открытой площадкой для новых экспериментов.
Чтобы пережить ощущение леденящего рока, нависшего над всеми, кто отстаивает принцип реальности, я придумала миф об этом исходе. Пытаясь преодолеть разрыв между правдой и ложью, который стал непоправимо большим, Брусникин и его товарищи по весенне-летнему призыву предпочли остаться с реальностью, а не с видимостью. Это, в свою очередь, потребовало предельной радикальности, то есть — смерти. И теперь в настоящей реальности живут они. А мы — здесь. Но только на время. Так и знайте: наши мертвые нас не оставят в беде. Затем и ушли.
Понравился материал? Помоги сайту!
 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали