 Общество
ОбществоАнтифа: что это было? И будет ли вновь?
Текст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги
1 февраля 202212834 © Дина Гатина
© Дина ГатинаВ новой книге «Литература факта высказывания» из серии ∗démarche собраны эссе по прагматической поэтике и материальной истории литературы Павла Арсеньева — политического активиста, активного участника культурного движения, практика и теоретика литературы, занимающегося сейчас пограничными феноменами в истории советской литературы, «русской теории» и эпистемологии науки в Женевском университете, но и продолжающего активный диалог со своими товарищами по активизму. Один из таких диалогов состоялся по случаю выхода книги с Олегом Журавлевым — активистом студенческого движения, социологом из Лаборатории публичной социологии и музыкантом из «Аркадия Коца».
По предварительной гипотезе соавторов, этот диалог мог бы не столько вобрать и как-то прокомментировать некоторые сюжеты предъявляемой книги, сколько реконструировать ту ненаписанную книгу, статью, в конце концов, тот диалог, который соавторы давно ведут в уме и который не всегда удается экстернализировать в господствующих формах публичной речи, а значит, и довести до конца. В этом смысле они оба надеются, что такая беседа с близким товарищем вместо чинного интервью о книге сможет стать своего рода нарушением дискурсивных приличий.
Олег Журавлев: Начнем с политики. Когда мы оба были активистами, твое политическое самоопределение было отчетливо анархистским. Не соглашаясь с тобой идеологически, я вместе с тем завидовал тому, как органично ты выстраивал связь между своей анархистской позицией и практикой самоорганизации — ежедневной работой с тканями для флагов, трафаретами, слоганами. Как ты считаешь, насколько внимание к быту, вещам, материальности, из которых создавалась самоорганизованная политика середины 2000-х, предопределило твои теоретические поиски?
Павел Арсеньев: Я помню, как когда-то в Центре независимых социологических исследований (куда мы часто ходили, потому что он располагался неподалеку от нашей коммуны в Кузнечном) был поднят вопрос о том, как вести себя в публичной сфере, какие действия могут быть развернуты в ней (в отличие от сферы приватной), и я спросил: «А как технологически определяется публичная сфера и в каких отношениях она находится с электронными медиа (тогда столь же новыми и неведомыми, что и сама публичная сфера)?» После этого, мне кажется, мы действительно не переставали расходиться, следуя дисциплинарно разнонаправленным интуициям: вы, социологи, шли в направлении исследования реальности политического момента и проекта возможных будущих действий; «мы, филологи» — как это случилось и с первым, кто произнес эту формулу, — в направлении все большей проблематизации фактуры выражения и ее непрозрачности, непроницаемости для всякой благонамеренной прямой речи, включая в особенности речь политическую (которую, впрочем, в то же самое время мы и практиковали, а не только (психо)анализировали из надежного дисциплинарного укрытия). В последнее время я склоняюсь к выводу, что все большее увлечение медиаанализом и медиологией продиктовано некоторым политическим разочарованием в возможностях «сказаться душой».
Другими словами, меня, в отличие от представителей эмпирической науки, с самого начала интересовало не содержание сколь угодно качественных и исчерпывающих интервью или репрезентативных выборок (участников митингов, к примеру), но пресловутый акт высказывания, существующий в несколько отличном от контент-анализа измерении. Однако, в отличие от психоанализа публичной речи, развиваемого, к примеру, Александром Смулянским [1], я предпочитаю достраивать это выражение до факта высказывания, что подразумевает, что это уже не просто действие некоего субъекта «при помощи слов» (пусть и бесконечно «расколотого»), но действие, осложненное и опосредованное материально-технически, что, наверное, меняет исходное намерение высказывающегося не менее существенно, чем все обнаруженные психо- и социоанализом искривления. Эта модификация, родившаяся, возможно, из ослышки или из желания методологического различения, дала название книге, гипостазирующей анализ дискурса [2] до анализа дискурсивной инфраструктуры, то есть тех аппаратных ограничений и протоколов обмена данными, что позволяют передавать, хранить и, следовательно, совершать высказывания в ту или иную историческую эпоху.
В любых сколь угодно эффективных символических действиях — в литературе или политической речи — я склонен видеть, прежде всего, организационные усилия и сопротивление материала — возможно, действительно потому, что и сам знаком с опытом организации подобной дискурсивной инфраструктуры, по которой впоследствии циркулируют высказывания, воспринимающиеся как более или менее удачные политические или самодостаточные литературные «факты». Этим отчасти объясняется не только дрейф от политического активизма к культурному деланию, но и моя теоретическая эволюция от прагматики к медиологии. Если для прагматики важно только совершаемое в некоторой ситуации языковое действие (акт/act/acte), то для медиологии — материально организованный факт/fact/fait. Первая еще вполне беззаботна, деятельно и творчески настроена, вторая уже умудрена опытом неудач — не только коммуникативных, но и организационных. Поэтому и начинаешь серьезнее относиться к потраченному времени, что выражается, надеюсь, не столько в поисках утраченного времени, сколько в научной организации труда. Медиология — это повзрослевшая прагматика, факт — это культурно состоявшийся акт.
Журавлев: Все эти годы я читал твои работы, посвященные литературе факта, сквозь призму собственного исследования политического позитивизма. Вопреки тому, что утверждают теоретики «постправды», сегодняшняя публичная политика опирается на культ подлинности, а наибольшей достоверностью и одновременно легитимностью обладают факты, будто бы говорящие сами за себя.
Если в XX веке идеологии и программы служили инструментом навигации в политическом пространстве, то сегодня, особенно в постсоветских странах, не что иное, как «самоочевидные факты», оказывается поводом к политизации. Нынешние активисты испытывают лозунги, программы, идеологии на соответствие «реальности» конкретных дел и героических поступков. Городской активизм «малых» и «реальных» дел, которые, в отличие от идеологической речи, самоочевидны; политические кампании Алексея Навального, в которых критика путинского режима ведется с помощью убедительности документальных свидетельств — цифр, документов, съемок и фотографий; наконец, восстания вроде «Болотного» протеста или Евромайдана, в которых событийная политизация в рамках единичного места и времени создает политическую легитимность, укорененную в подлинном опыте гражданского пробуждения; все это — примеры того, что я называю политическим позитивизмом.
В действительности такая политика подлинности основана на культурной предрасположенности верить тому, что эффектно позиционирует себя как знание, не нуждающееся ни в каком опосредовании, тому, что представляется самоочевидным. Чтобы возмутиться в 2011 году «наглой и неприкрытой» кражей голосов, нужно было сначала, следуя призыву лидеров, совершить моральную инвестицию в сам акт голосования (который в прежние годы совершался автоматически и равнодушно) и тем самым утвердить свое право на голос, оказавшийся украденным, а также обнаружить свою приверженность самой культуре документальной достоверности. Я критически смотрю на политическую культуру подлинности, которая скрывает свои идеологические основания и используется правыми популистами и неолиберальными элитами для утверждения их легитимности. Что можно было бы сказать о функционировании фактов в современной политике с твоей теоретической позиции?
Арсеньев: Действительно, что нас по-прежнему объединяет и заставляет спорить о гранях соприкосновения и границах методов, так это интерес к фактам — литературным и научным, техническим и политическим. Как ты помнишь, мы несколько лет собираемся совместно написать о циркуляции политического объекта или гражданской жестикуляции нового типа, которые связаны с понятием «факта, говорящего сам за себя» и эффектом непосредственного присутствия, что на самом деле гарантированы определенными идеологическими импликациями и техническими медиациями. В обоих наших случаях интерес к фактам критический, но ты, скорее, считаешь факты подозрительными в своей самоочевидности и скрывающими свои идеологические предпосылки, я же считаю, что «факты, говорящие сами за себя» действительно очень красноречивы — но только в отношении самих себя. В своей прошлогодней лекции, споря с твоим определением «бессодержательности» протестов и языка фактов, я назвал это политикой дейксиса, или политикой языкового присутствия [3].
Мне представляется, что само высказывание вида «мы здесь власть» отнюдь не бессодержательно и является не менее, а то и более интересно сконструированным (ф)актом, чем отмечаемые нарушения на выборах или ямы на дорогах. Еще более примечательно, что и те, и другие факты сегодня существуют постольку, поскольку они удовлетворяют определенным техническим протоколам документации и трансляции. Факты нарушений на выборах, зафиксированные технически, обнаружили не только украденные голоса, но и то, что граждане теперь имеют иные технические расширения, позволяющие фиксировать сам факт кражи голоса. Аналогичным образом эффект присутствия «нас всех» здесь-и-сейчас на площади возникает благодаря новым средствам трансляции и углу обзора (и одновременно подтачивается из-за них же). Видеокамеры и дроны определяют устройство современных гражданских чувств и речений.
Собственно, современная политическая речь характеризуется столь обсессивным использованием дейктиков потому, что без них сегодня более неочевидно, кто, откуда, когда и, как следствие, что именно говорит. Если 1960-е были обеспокоены, прежде всего, институционными условиями речи и ее институциональными опосредованиями, то сегодня нам требуется, в первую очередь, как можно больше метаданных всякого высказывания: не только кто такие «мы», но и где «здесь (власть)», а также когда мы «придем еще».
Понимая эти фрагменты публичной речи как лингво-прагматические единицы, позволяющие нарративно-дейктическую атрибуцию по Бенвенисту и перформативно-институционный анализ по Остину—Бурдье, я стремлюсь видеть их не только как социально-идеологические симптомы, но и как медиатехнические факты. Реагируя на предложенный тобой пример социального эффекта присутствия/подлинности, я, прежде всего, вижу в нем медиадискурсивную сущность — акт публичной речи и подключаемых к ней технических операций видеосъемки и «фиксации фактов». Будучи не менее подозрителен к простым гражданским чувствам и эффектам, я в то же время, что ли, чувствительнее к перспективе обрушения референции, рекурсии означающего и — что ты бы поставил мне в упрек — зачарован некоей стихией говорения самой по себе. Как следствие всего этого, я и обращаюсь к этим техническим фактам, опосредующим и одновременно делающим теперь высказывание возможным — как в свое время это делал алфавит, затем — риторика (до XIX века), позже — публицистика (XIX век) и наконец — кибернетика (XX век). Другими словами, я остаюсь материалистом, возможно, даже большим, чем хочется думать марксистам: ведь, настаивая на акте и, как (материалистическое) следствие, на факте высказывания (научного, литературного или политического), я настаиваю на существовании некоторой инфраструктуры, определяющей то, что может быть сказано в языке и передано в медиа определенной эпохи.
 © Дмитрий Воробьев
© Дмитрий ВоробьевЖуравлев: Будучи критической и разоблачительной в отношении зауми «чистого искусства» или классической русской литературы, будучи одержимой страстью как к «самой реальности», так и к конкретике сделанной вещи, литература факта (ЛФ) не сводится к этим страстям. Рефлексия в отношении речевых вещей, которую ты считаешь теоретическим ноу-хау советских 1920-х, с одной стороны, и социалистическая идеология вкупе с участием в строительстве социализма, с другой, позволяют разглядеть политическую эпистемологию, не сводящуюся к позитивизму. «Для нас, фактовиков, не может быть фактов как таковых. Есть факт-эффект и факт-дефект. Факт, усиливающий наши социалистические позиции, и факт, их ослабляющий», — пишет Третьяков. Как ты видишь соотношение между фактами социальной реальности и фактами самого языка в литературе?
Арсеньев: Я полагаю, что страсть фактографии действительно носила смешанный и отчасти разоблачительный характер, но заумь и реализм XIX века оказываются не только объектами критики, но и ресурсами вдохновения, притом довольно необычно сочетаемыми в ЛФ. Действительно непосредственно резонировать с предложенным тобой понятием политического позитивизма будет то, что я называю традицией литературного позитивизма: ее я отсчитываю примерно от Белинского и до Шаламова (который может показаться здесь неожиданным, но немало взял у условно пушкинской прозы, а также немало критиковал дидактическую амбицию литературы XIX века) [4].
Если литературный позитивизм XIX века действительно одержим страстью к «самой реальности» (чаще всего социологической) и как будто недостаточно учитывает деформационные свойства языка и инерции литературного стиля (следуя в этом естественной науке при посредстве «позитивной науки» социологии), то литературная фактография XX века не отказывается от этой страсти, но как раз сосредоточивает ее в повороте к упоминаемой тобой конкретике сделанной вещи. Грубо говоря, меняется сам характер фактов, которые принимаются (литературой) в счет: они начинают носить, что ли, менее референциальный, «обличающий» внешнюю реальность характер и становятся обращенными, скорее, к материальности означающего и фактичности высказывания. Однако сам регулятивный критерий фактов не только сохраняется, но и уточняется и, по моему мнению, даже радикализируется. Таким образом, мой более или менее провокационный в отношении сложившихся в литературоведении оппозиций тезис заключается в том, что «заумь чистого искусства» не приходит на смену критической и, выходит, одновременно наивной страсти к «самой реальности», но радикализирует эту страсть, одновременно модифицируя ее в силу изменяющегося — в том числе и в науке — представления о реальности.
Как это показывает Фридрих Киттлер, такие технические изобретения, как фонограф, кинескоп и печатная машинка, кардинально трансформируют не только отношения полов с означающим (в чем есть и свои социологические импликации), но и саму психофизиологию письма. Так вот, заумь, по моей гипотезе, не является некой капризной формой отлета от реальности, которой был еще так предан реализм, но, напротив, представляет собой непосредственное приближение к той реальности психофизиологического опыта, которую приносит фонограф и которая заключается в возможности фиксации голоса/звука без опосредования понятийным языком. Именно это написано на знаменах заумной поэзии, и именно это впервые становится технологически возможным благодаря изобретению фонографа (до этого любой животный/природный или механический/индустриальный звук мог быть представлен только символами человеческого и в пределе литературного языка).
В этом смысле в качестве литературного позитивизма можно рассматривать не только движение, в названии которого будут фигурировать «факты», но и непосредственно примыкающий к нему и учитываемый им футуристический авангард, намного более внимательный к реальности нового опыта, уже схваченного техникой и наукой (в том числе лингвистической — благодаря фонографу расцветает такая эмпирическая наука, как фонология), чем иной запоздалый реалист вроде Горького или, скажем, Бунина (пассеизм литературных техник не знает политических границ). Что уж говорить о самой ЛФ, идеолог которой начинал как заумный поэт, продолжал экспериментами в области биомеханического воздействия на театре (Эйзенштейн и Мейерхольд ставят шесть пьес Третьякова), пока наконец не пришел к «новым медиа» (которыми на тот момент считались радио и газета), не столько «транслирующим факты», сколько оказывающим психоинженерное воздействие на аудиторию и индустриализирующим сам язык. В конце этой традиции литературного позитивизма стоит Шаламов, который не только был одно время увлечен идеями Нового ЛЕФа, но и получил некогда от Третьякова редакционное задание. Разумеется, оно заключалось в том, чтобы написать инструкции для дикторов радио. Это показалось тогда еще молодому лирическому поэту слишком техническим, однако впоследствии он создаст свою версию фактографии — фактографию «протокола, окропленного кровью».
Другими словами, ЛФ является синтезом традиций русского реализма (или литературного позитивизма) XIX века и опыта футуристического авангарда (или литературного неопозитивизма) уже XX века, что и делает их факты столь необычными и, если угодно, двояко обращенными — как к реальности социалистического строительства, так и к новой психофизиологии означающего.
Журавлев: Ты много пишешь о значении литературы факта для последующей теории. Страсть к «самой реальности» и одновременно рефлексия в отношении акта говорения, внимание к литературному быту у близких к Новому ЛЕФу формалистов и т.д. — все это действительно кажется знакомым по важным литературным и теоретическим открытиям XX века. Почему, однако, ты ничего не пишешь про дальнейшую науку и политику, на которую тоже интересно посмотреть именно из той конфигурации, про политический позитивизм, который заключается в вотуме недоверия к «идеологии» и безграничном доверии к «объективным» фактам или же, наоборот, к «постправде»? Почему, пытаясь разглядеть в ЛФ будущее теории, ты не касаешься будущего (по отношению к 20-м — 30-м) советской и постсоветской политики?
Арсеньев: Как видишь, я не избегаю интереса к политическому позитивизму, но в силу траектории, ведущей меня от теории знака и философии языка к анализу современных способов говорения в литературе и медиаполитике (а не наоборот — от высказываний вида «мы здесь власть» к первому знакомству с перформативными парадоксами), единственными или, во всяком случае, первичными фактами для меня являются дискурсивные и медиатехнические факты, которые делают речь субъекта возможной, рефлексивной или даже парадоксально самообращенной, а не те референциальные — ложные или истинные — факты, которые его якобы к этой речи побуждают. Если угодно, я смотрю на очередное рождение фактов в литературе и политике сквозь призму Тынянова и Латура и потому вижу, прежде всего, не то, сколь возмутительный или обнадеживающий характер они имеют, но как они устроены институционально и (медиа)технически.
Я бы не стал называть это редукционистской оптикой или оптикой, уводящей нас в сторону. Возможно, не менее скандальным в сравнении с современной постверсией фактов окажется тот весьма изменчивый в истории объем этого понятия, что родом из британской эмпирической традиции терапии языка, существующей от Бэкона до Витгенштейна и определяющей не только юридическую или политическую практику, но и интересующие нас с тобой эпизоды из научной и литературной истории, поднимавшей факты на знамена. Собственно, именно последней — литературной — практике факта (или, шире, «искусству факта») и посвящены мои размышления последних лет.
Первые (научные) факты не только были довольно странными на взгляд современников, но и немало удивили бы сегодня и нас: они не были «регулярными» и сопротивлялись как интерпретации, так и классификации. Эти долго копившиеся за пределами аристотелевской модели знания исключения были мобилизованы и призваны в науку Бэконом для того, чтобы «вылечить понимание, развращенное привычкой и общим ходом вещей». Как мы видим, Бэкон в начале XVII века проделывал с языком науки то же, что Шкловский — с языком литературы в начале XX: сегодня мы обычно называем эту операцию остранением.
Если в изящной словесности принято чаще делать акцент на «чужеземном языке» или необычном видении как способе возвращения чувствительности к обыденным вещам, то террор, сопровождающий научные революции, обычно осуществляется от имени «самих фактов», которые, напротив, требуют максимально прозрачного языка и дисциплинированной оптики. Однако временами это менялось, и те же самые протагонисты, что принадлежали к группе продленного восприятия, начинали участвовать в движении литературы фактов, тогда как наука обнаруживала множество семиотических хитросплетений на пути от природы к рецензируемой публикации [5].
Как быстро становится понятно, факты с момента рождения в XVII веке были связаны не просто с языком, но с особыми медицинскими или военизированными операциями, производимыми над словами. Сегодня наряду с языком от фактов нас отделяют его новейшие материально-семиотические расширения. Призывая помнить о технических условиях и факторах распространения фактов в социальной и физической среде, мы не упрощаем доступ к «самим вещам», но, скорее, осложняем его еще одним обстоятельством: аналогично тому, как слова во многих философиях языка воспринимались в качестве экрана, опосредующего контакт с реальностью, необходимо осмыслить то же «трансцендентальное» качество материальных носителей (и, конечно, собственно те экраны, которые служат фильтрующими и проективными поверхностями сегодня, — но не только их и не переоценивая их уникальность).
Проблема постправды ужасно анахронистична. До сих пор средства и опосредования излишне драматизируются в терминах истинного/ложного, соответствия фактам. Но обрати внимание на примечательное изменение правил (языковой) игры, которое вносит уже лингвопрагматика Остина, — интерес к медиа даже в самом примитивном варианте подсказывает, что они тем более прежде всякого пропозиционального содержания и даже условий успешности устанавливают определенный корпоральный контакт и потому не позволяют рассматривать их (и то, чему они служат носителями) вчуже. Не потому ли эпоха постправды датируется не Темными веками с их сложностями распространения знаний, а эпохой «двойного клика», когда любая информация может быть как найдена, так и потеряна (во всяком случае, забыта) в мгновение ока.
Журавлев: Твое методологическое внимание к инфраструктуре и медиации фактов, которое ты (я верю, напрасно) противопоставляешь социологическому методу, подталкивает меня к эпистемологическому вопросу, связанному с критической теорией и марксистской наукой. Как ты можешь заметить, я не верю в подлинность, в которую верят активисты и политики. Я считаю политику подлинности идеологией, то есть формой практического, укорененного в материальности и инфраструктуре знания, которое, с одной стороны, оправдывает, сообщает легитимность тем или иным политическим силам и программам, а с другой стороны, скрывает свою идеологическую суть, претендуя на нейтральность и объективность. Не является ли твое вдохновленное формализмом и медиаанализом изучение сделанности и технической обусловленности фактов ресурсом для общетеоретической критики идеологии, которая сегодня уже не может сводиться к приверженности идеям и нарративам и к субъективации, но должна включать в себя критический анализ фабрикации достоверности?
Арсеньев: Да, именно так. Возможно, политик и активист должен верить в подлинность той или иной версии — это программное обеспечение его действий (или идеология), но исследователь (порой в одном лице с политиком или активистом) должен показывать, как это работает — дискурсивно, институционально и материально-технически, — и неизбежно отстраняться от ее действия. И дальше твой вопрос касается уже тогда только методологических приверженностей (которые, возможно, как-то коррелируют и с политическими пристрастиями).
Неомарксисты, конечно, уже немало сказали о практике и даже опосредовали идеологию аппаратом (Альтюссер), но тот оставался у них совершенно нематериальным. Те же, кто говорит (как правило, справа) о харизме, заражении, убедительности и даже «диктатуре символического» (всегда осуществляемой кем-то суверенным и в отношении толпы), лучше бы и вовсе сосредоточились на акустике, гортани и микроволнах, словом, на «логистике символического» (Дебре). Не только идеология, но и (утопическая) теория не всесильна-потому-что-верна, а требует множества материальных условий для того, чтобы действовать.
Поэтому от прагматики, с интереса к которой мы начинали, я и сдвигаюсь все больше к медиологии. Первая в лучшем случае учитывает институционные условия успешности и, скорее, драматизирует cogito праксисом (а идеализм теории — всегда недостающим активизмом), а значит, не порывает еще с суверенным субъектом. Прямое (социальное) действие всегда еще остается мечтой человекобога, пресловутые речевые акты существуют целиком в его полной власти, не обнаруживая никакого материально-физического опосредования.
Однако там, где есть коммуникативные акты, уже недалеко и до инструментов и аппаратов, а значит, и понимания, что все эти политические действия при помощи слов (не так важно — «страшно далекие от народа» или же бесконечно все упрощающие) существуют не только в опоре на институционные условия, но еще и в некоторой технической среде. Хорошо известное филологам определение языка (приписываемое Бисмарку) как «диалекта с пушками и дипломатией» удачно показывает важность всех трех фронтов — и технические устройства, на которые опирается сила языка и которые всегда обязаны своим изобретением войне (о чем не устает напоминать Киттлер), и социальные институты, которые, давая языку не меньше (о чем говорил Остин), являются формой войны другими средствами (на что намекает Бурдьё).
Что касается моего интереса к инструментальным метафорам и материальной истории литературы, я пытаюсь смотреть не только на административное устройство Республики литературы, к чему клонит теория «литературного быта», но и на ее промышленные мощности, на уровень ее научно-технического развития. К (микро)социологии производства и чтения литературы необходимо добавить ее медиаанализ, к институциональной критике литературы — ее технологическое «развинчивание».
Знаменитую формулу развенчивания и развинчивания литературы было бы соблазнительно применить к этим отчасти противопоставленным, отчасти родственным, можно сказать, паронимическим критическим операциям, направленным на социальный институт и технический аппарат соответственно. Особенно она подошла бы современным теоретическим тенденциям, в которых разоблачительную критику объекта все больше призывают «заменить или осложнить» навыком его технической раз/сборки. Однако именно в рамках марксистской традиции переход к «критике института» всегда допускал формулировку «критики аппарата» (идеологии или кино [6]) и все чаще фразеологически приводил именно к ней. Таким образом, вовлеченно-техническую, а не внешне-критическую стратегию развинчивания стоит видеть уже в институциональной критике литературы, первым образцом которой и стоит считать формальный анализ «литературного быта», где социологизирующей тенденции и была привита формалистская оптика (или, наоборот, формальной оптике — социологизирующая тенденция), тогда как развенчивающей как раз осталась вульгарная социология литературы.
Журавлев: Твое теоретическое увлечение формалистским методом всегда казалось мне продолжением твоей собственной художественной и интеллектуальной практики. Как ты сейчас видишь отношения между наследием формализма и современным леводемократическим искусством?
Арсеньев: Моей главной эмоцией в отношении формализма, наверное, является страсть к его модернизации. Его главный теоретический трюк — опосредование материала конструкцией — мне всегда казался вдохновляющим к дальнейшему овнешнению, то есть пониманию уже самой формы или конструктивного принципа как опосредованных медиатехнически. Ведь если коммуникация во всякую эпоху опосредована какой-то технической материальностью, то литература, как одна из (наиболее сложно организованных) коммуникативных техник, тоже имеет свою материальную историю. Выражаясь в медиаэкологических терминах, возможно, литература все же окажется «адаптивным ответом на среду» — не только и не столько на социальную (как представляли враждебные формализму вульгарные социологи), сколько, прежде всего, на техническую, которая определяет конструкцию человеческого, начиная с палеонтологического уровня. И вот это может оказаться вполне созвучным такой философии литературной техники, какой был формализм. Литературную форму не следует онтологизировать или противопоставлять некоему демократическому сообщению, скорее, стоит историзировать и технологизировать и то, и другое.
Действительно, отдельные коммуникативные техники целиком жертвовали сложностью языкового выражения ради прохождения сообщения, и литература с определенного момента явно не может быть названа сообщением, полностью сводимым и адаптированным к техническим требованиям канала. Скорее, она находится с ним в сложных переговорах, заключает с ним сделки и выявляет его баги, никогда полностью не освобождаясь от сопротивления материала, но часто находя способы обратить ограничения в преимущества. Литература может находиться в различных отношениях с медиаэкосистемой своей эпохи — в диапазоне от симбиотических до паразитических.
Так, если коммуникация в целом в ходе технической эволюции стремится к прозрачности, усиливая соответствующую иллюзию не сбросом, но ростом технической сложности, искусство, по выражению Шкловского, является «плохой коммуникацией», затруднением восприятия и выведением техники языка из строя, а временами и целой забастовкой языка. Во всяком случае, таково его самопонимание в конкретной историко-технической ситуации изобилия коммуникации (датируемой серединой XIX века, когда La Presse начинает продавать не информацию читателям, но внимание аудитории — рекламодателям). Тогда же, когда технические средства имели намного более скромные возможности, литература благополучно несла дополнительную нагрузку — организационную, моральную, дидактическую. Именно поэтому отказ литературы от того, чтобы выполнять какие-либо задачи, кроме эстетических, т.е. начало ее модернистской истории, мы связываем именно с изобретением и вхождением в обиход конкретных техник, которые и позволили ей совершить этот демарш. Ни предшествующую историю литературы нельзя назвать испытывавшей дефицит самосознания, ни последующую — историей эмансипации: скорее, и та, и другая сотрудничали со своей медиаэкосистемой. Таким образом, даже — и, возможно, прежде всего — у автономии литературы есть свои технические условия возможности, которые не сводятся к внутренней эволюции «литературной техники», но связаны с более широкой технической периферией. Если история модернистской живописи уже не воспринимается без события изобретения фотографии, то в зале модернистской славы литературы по-прежнему отсутствуют такие экспонаты, как фонограф или печатная машинка.
[1] См. первую книгу Александра Смулянского «К понятию акта высказывания», вышедшую в этой же серии в 2014 году, а также последовавшие за ней книги «Желание одержимого» (2016) и «Метафора отца и желание аналитика» (2019), вышедшие в других издательствах.
[2] Наверное, также важно уточнить, что в данном случае я имею в виду французскую школу анализа дискурса, представляемую, в частности, Патриком Серио, у которого я немного учился в 2013–2014 гг. См. подробнее: П. Серио (ред.). Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. — М.: 1999.
[3] См. лекцию, а также авторизованную расшифровку.
[4] Впервые это понятие я предложил в качестве темы выпуска № 17 «[Транслита]» в 2015 году. См. подробнее тут.
[5] Этому, в свою очередь, была посвящена моя лекция в ДК Розы «Могут ли факты говорить за себя?», которая готовилась параллельно с доработкой книги.
[6] Чему была посвящена моя, по-видимому, первая теоретическая публикация (Вообразить означающее («Верить своим глазам»: повествовательный вымысел против материальности означающего) // НЛО, № 3 (109), 2011) и что продолжает занимать меня в последней на данный момент (Техно-формализм, или Развинчивая русскую теорию с Латуром // НЛО, № 5 (159), 2019).
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Общество
ОбществоТекст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги
1 февраля 202212834 Академическая музыка
Академическая музыка Литература
Литература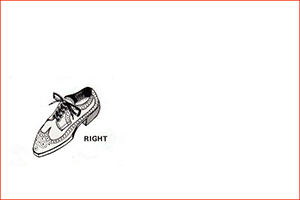 Молодая Россия
Молодая Россия«Говорят, что трех девушек из бара, забравшихся по старой памяти на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства». Рассказ Артема Сошникова
31 января 20221535 Искусство
Искусство Современная музыка
Современная музыка Кино
КиноДенис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат
27 января 20224008 Современная музыка
Современная музыкаТурист, модник, художник и другие малоизвестные ипостаси лидера «Кино» на выставке «Виктор Цой. Путь героя»
27 января 20223839 Молодая Россия
Молодая Россия«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой
27 января 20221579 Литература
Литература Общество
Общество Кино
Кино