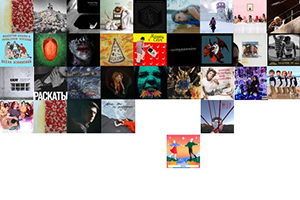 Современная музыка
Современная музыкаИтоги-2021: наша музыка
Сергей Мезенов называет 13 лучших российских альбомов 2021-го и предлагает послушать плейлист хороших песен года
11 января 20223679 © TT News Agency / ТАСС
© TT News Agency / ТАСС7 декабря Ольга Токарчук, лауреат Нобелевской премии по литературе 2018 года, прочла в Шведской академии нобелевскую лекцию. По просьбе COLTA.RU Елена Рыбакова перевела для нас с польского полный текст лекции.
Первым снимком, ставшим моим личным переживанием, была фотография мамы, сделанная еще до моего рождения. Фото, увы, черно-белое, многих деталей не разглядеть, вместо них разве что серые разводы. Приглушенный свет, какой бывает во время дождя, на дворе наверняка весна, свет просачивается в окно, так что комната слегка поблескивает. Мама сидит у старого радиоприемника — у таких были зеленый глаз и два рычажка: один — чтобы регулировать громкость, другой — для поиска радиосигнала.
Этот приемник скоро станет товарищем моих детских лет, и это от него я узнаю о существовании космоса. Поворот эбонитовой ручки чуть-чуть смещал чувствительные усики антенн, и они улавливали разные станции — Варшаву, Лондон, Люксембург, Париж. Иногда звук исчезал, как если бы между Прагой и Нью-Йорком, Москвой и Мадридом усики антенны попадали в черную дыру. В такие минуты меня пробирала дрожь. Я верила, что из этого приемника меня окликают солнечные системы и галактики, высылают мне сквозь треск и шумы свои сообщения, а я не в состоянии их расшифровать.
В детстве, разглядывая эту фотографию, я была уверена, что мама ищет меня, потому и крутит ручку приемника. Как чуткий радар, она обшаривает бесконечные космические пространства, чтобы узнать, когда и откуда меня ждать. Прическа и платье (глубокое декольте-лодочка) говорят о времени, когда сделан снимок, — это начало 60-х годов прошлого века. Вглядывающаяся куда-то за пределы кадра, слегка ссутулившаяся женщина видит что-то, чего не видим мы. Ребенком я понимала это так: мама смотрит во время. На фото ничего не происходит, это снимок состояния, не процесса. Женщина печальна, задумалась, она как будто и здесь и не здесь. Когда я потом спрашивала о причинах этой печали — а я делала это много раз, чтобы услышать один и тот же ответ, — она отвечала, что грустит, потому что я еще не родилась, а она уже тоскует по мне. «Как ты можешь тосковать по мне, если меня еще нет?» — спрашивала я.
Что тоскуют по кому-то, кого потеряли, что тоске предшествует утрата — об этом я уже знала. «Но бывает и наоборот, — отвечала она. — Если по кому-то очень тоскуешь, он уже есть». Этот краткий диалог в провинциальном городе на западе Польши где-то в конце 1960-х, диалог мамы с дочерью, остался со мной навсегда и придал сил на целую жизнь. С этой минуты мое существование было приподнято над рутиной случайного и материального, над причинами и следствиями, над законами правдоподобия. Я очутилась где-то вне времени, в сладком соседстве с вечностью. Своим детским умом я поняла, что меня на самом деле больше, чем мне до сих пор казалось. И что даже если я скажу: «Меня нет», на первом месте все равно буду «я» — главное и самое удивительное на свете слово. Так нерелигиозная молодая женщина, моя мама, дала мне то, что раньше называли душой, а значит, отправила в мир с лучшим из возможных чутким рассказчиком.
Мир — штука материи, в изготовлении которой мы участвуем изо дня в день, запуская гигантские прядильные станки информации, дискуссий, фильмов, книг, слухов, анекдотов. Сфера покрытия этих станков сегодня огромна — благодаря Интернету практически каждый может приобщиться к этому процессу, ответственно и безответственно, из любви и из ненависти, во благо и во зло, ради жизни и ради смерти. Стоит смениться словам, как меняется мир. В этом смысле мир создан из слов. То, как мы думаем о мире и — что, пожалуй, главное — то, как о нем рассказываем, чрезвычайно весомо. Случившееся и не рассказанное перестает быть, умирает. Об этом прекрасно осведомлены не только историки, но и (а может быть, прежде других) политики всех мастей и тираны. Власть у того, кто говорит. Сегодняшняя проблема, как кажется, состоит в том, что у нас нет готовых нарративов не только для будущего, но даже для непосредственного сейчас, для сверхбыстро меняющегося современного мира.
Нам недостает языка, точек зрения, в дефиците метафоры, мифы и новые сказки. Зато мы свидетели того, как эти неуместные, проржавевшие, выпавшие из времени нарративы пытаются пристегнуть к образам будущего, может быть, исходя из предположения, что старое нечто лучше, чем новое ничто, или пытаясь таким образом справиться с ограниченностью собственных горизонтов. Одним словом, нам недостает новых возможностей описания мира.
Наша реальность полнится голосами, ведущими речь от первого лица, так что на каждом шагу нас настигает этот многоголосый шум. Говоря «первое лицо», я имею в виду тип повествования, описывающий узкие круги, которые стягиваются к авторскому «я», к рассказчику, так или иначе говорящему прямо только о себе и от себя. Мы приняли как данность, что этот тип индивидуации, речь от «я» — самый естественный, человечный, честный, даже когда он отказывается от более широкой перспективы.
Вести рассказ от так понятого первого лица значит ткать полностью неповторимый узор, единственный в своем роде, осознавать собственную единичность, дать согласие на собственную судьбу. Это означает, однако, и готовность к столкновению «я» с миром, вплоть до полного отчуждения. Полагаю, что повествование, организованное от первого лица, чрезвычайно характерно для современной оптики, отводящей единице роль субъективного центра вселенной.
Западная цивилизация в значительной мере сформирована этим фундаментальным открытием «я», ставшим мерой всего сущего. Человек здесь — ведущий актер, и к его мнению, пускай оно только одно из многих, здесь всегда прислушиваются с уважением. Повествование от первого лица представляется одним из главных открытий человеческой цивилизации, заслуживающим благоговения и абсолютного доверия.
Этот тип повествования, позволяющий нам видеть мир глазами чужого «я» и вслушиваться в окружающее от его имени, как никакой другой связывает нас с рассказчиком и обязывает занять его неповторимую позицию. Трудно переоценить то, что сделано повествованием от первого лица для литературы и в целом для цивилизации — это оно превратило разговор о мире как арене действия богов и героев, повлиять на которых мы не в силах, в нашу персональную историю и вывело на сцену людей, мало чем отличающихся от нас. Добавим к этому, что с такими, как мы сами, не так уж сложно отождествить себя, благодаря чему между повествователем и читателем или слушателем устанавливается эмоциональное соглашение, опорой которому служит эмпатия. Эмпатия же по природе своей стремится к отмене границ — нам ничего не стоит в романе стереть черту между авторским и читательским «я», а роман, который должен «захватить», просто-таки рассчитан на то, что эта черта будет аннулирована, и именно читатель, ведомый эмпатией, на какое-то время станет рассказчиком.
Итак, литература стала площадкой для обмена опытом, агорой, где у каждого есть право изложить собственную судьбу или отдать голос своему alter ego. Площадкой, добавим, демократической — здесь каждому позволено взять слово и каждый может сотворить того, кто говорит. Пожалуй, никогда еще в человеческой истории столь много людей не занималось писанием и рассказыванием.
Достаточно взглянуть на любые цифры. На книжных ярмарках я вижу, как многое из того, что издается, напрямую связано с авторским «я». Инстинкт самовыражения — вероятно, не менее мощный, чем другие инстинкты из тех, что проектируют нашу жизнь, — в полной мере обнаруживает себя в искусстве. Нам хочется, чтобы нас заметили, хочется быть исключительными. Все эти «расскажу свою историю», «расскажу историю моей семьи», здесь же, само собой, «расскажу, где была» — сегодня самые популярные литературные жанры. Это феномен недюжинного масштаба еще и потому, что окончательно достигнутая всеобщая грамотность позволяет множеству людей освоить эту закрепленную некогда за немногими способность выражать себя посредством слов. Парадоксальным образом, однако, это напоминает хор, состоящий из одних солистов, — голоса накладываются, оспаривают право на внимание, движутся по сходным траекториям и в итоге заглушают друг друга. Мы знаем о них все, мы в состоянии отождествиться с каждым из них и пережить их жизнь как свою.
И, невзирая на это, читательский опыт как-то подозрительно часто описывается как неудовлетворение и разочарование, как только выясняется, что выражение авторского «я» не гарантирует универсальности. Чего нам недостает, так это, как представляется, притчевого измерения в повествовании. Ведь герой притчи — это именно тот, кто способен одновременно быть собой, человеком, живущим в определенных исторических или географических условиях, и решительно размыкать этот очерченный круг обстоятельств, становясь Каждым и Всюду.
Погружаясь в вымышленный мир, читатель может соотнести себя с судьбой героя и его романную задачу принять как свою, притча же требует полностью отказаться от собственной единичности и стать этим Каждым. В таком весьма нетривиальном, с точки зрения психологии, трюке притча, подбирая для разных судеб общий знаменатель, универсализирует наш опыт, что же до ее мерцающего присутствия, оно представляется здесь свидетельством нашей беспомощности.
Быть может, для того, чтобы не утонуть в обилии имен и названий, мы принялись дробить огромное Левиафаново тело литературы на жанры, превратившиеся в подобие спортивных дисциплин, при которых писатели и писательницы состоят кем-то вроде спортсменов высшей лиги. Глобальная коммерциализация книжного рынка привела к обособлению отраслей — появились ярмарки и фестивали литературы такой и этакой, существующие сами по себе, со своей читательской клиентурой, целиком погруженной в детектив, фэнтези или научную фантастику. Странность этого положения в том, что средство, смыслом которого была единственно помощь книжникам и библиотекарям в упорядочивании на полках новинок и которое должно было послужить читателю ориентиром в этом море, превратилось в абстрактные категории, не просто подминающие каждое новое произведение, но диктующие писателям, как писать.
Жанровое сочинение все чаще напоминает форму для выпечки, производящую неразличимый продукт, его предсказуемость возведена в достоинство, его банальность стала достижением.
Читатель знает, на что может рассчитывать, и получает ровно то, чего ожидал. Интуитивно я всегда сопротивлялась такому порядку вещей как ограничивающему писательскую свободу, заражающему неприязнью к эксперименту и трансгрессии, в которой заключена существенная часть писательства как такового. Такой порядок напрочь лишает творчество эксцентрики, без которой нет искусства. Хорошая книга не обязана давать отчет о своей жанровой прописке. Деление на жанры — результат коммерциализации литературы, следствие отношения к ней как к объекту продажи со всей подразумеваемой здесь философией брендов, таргетированием и прочими изобретениями сегодняшнего капитализма. Что может дать нам изрядное удовлетворение, так это то обстоятельство, что на наших глазах рождается новый способ описания мира, каким является сериал с его неочевидной задачей ввести нас в состояние транса. Разумеется, такой тип словесного творчества был прекрасно известен уже в гомеровские времена, а Геракл, Ахилл и Одиссей, без сомнения, могут быть названы первыми героями сериала. И однако никогда раньше он не требовал для себя такого пространства и не влиял столь очевидно на коллективное воображаемое.
Первые два десятилетия XXI века можно с уверенностью назвать временем сериала. Влияние сериала на способ описания (а значит и понимания) мира представляется революционным.
Сериал в нынешнем своем обличье не только раздвигает временные границы нашего участия в процессе повествования, порождая новую темпоральность, провоцируя сюжетные ответвления и переставляя акценты; он вносит в повествование и новый порядок. Поскольку по большей части задача состоит в удержании внимания так долго, как это возможно, сюжеты начинают множиться, переплетаться самым неправдоподобным образом и так обильно, что, не в силах распутать эти сюжетные узлы, сериал в конце концов вынужден прибегнуть к безнадежно устаревшему приему, скомпрометированному еще классической оперой, — deus ex machina. По ходу создания очередной серии нередко приходится пересматривать психологический рисунок того или иного персонажа, приспосабливая его к новым сюжетным обстоятельствам. Герой кроткий и сдержанный ближе к финалу становится вспыльчивым и жаждет мести, персонаж эпизодический перемещается на первый план, а тот главный, к которому мы уже успели привязаться, отступает в тень, а то и вовсе исчезает к нашему полнейшему недоумению.
Всегда сохраняющаяся вероятность очередного сезона требует оставлять финалы открытыми, без надежды на проговаривание того таинственного катарсиса, который был знаком внутреннего изменения, самоосуществления и давал разрядку каждому участвующему в акте повествования. Такой тип усложнения и фабульной незавершенности, постоянная отсрочка награды, какой является катарсис, порождает новую зависимость и завораживает.
Открытая концовка, изобретенная в незапамятные времена и известная хотя бы по сказкам Шахерезады, возвращается в сериале в одеждах большого стиля, утончает нашу чувствительность и обеспечивает поразительный психологический результат, отрывая нас от собственной жизни и порождая зависимость сродни наркотической. И одновременно сериал вписывается в новый неупорядоченный ритм мира, обнаруживает общую природу с его хаотической коммуникацией, с его изменчивостью и текучестью. Эта форма повествования оказывается, пожалуй, наиболее творческой в том, что касается поисков новой формулы. В этом смысле сериал проделывает важную работу по обтачиванию способов говорения о будущем и подгонке рассказа к новой реальности. Ведь прежде всего мы живем среди нагромождения противоречащих, сталкивающихся лбами, исключающих друг друга сведений. Наши предки верили, что доступное знание обеспечит людям не только счастье, благополучие, здоровье и богатство, но и создаст общество на основах равенства и справедливости. Чего, как им казалось, недоставало миру, так это всеобщей мудрости, проистекающей из знания.
Ян Амос Коменский, великий педагог XVII столетия, изобрел понятие пансофии, заключающее идею потенциального всеведения, универсальной мудрости, способной вместить любое знание. Разумеется, это было прежде всего мечтой о знании, доступном каждому. Разве все богатство знания о мире, став достоянием каждого, не обязано превратить неграмотного крестьянина в рефлексирующую личность, отдающую себе отчет во всем, что происходит? Разве знание, приблизившись на расстояние вытянутой руки, не сделает людей существами благоразумными, способными мудро управлять собственной жизнью?
С появлением Интернета казалось, что эти идеям пришло время сбыться в масштабе всеобщем. Википедия, которой я не устаю восхищаться и которую стараюсь поддерживать, могла бы показаться Коменскому и другим философам этого направления осуществившейся мечтой человечества — вот он, создаваемый нашими руками и доступный ресурс знания, постоянно пополняющийся, наиновейший и доступный практически в любой точке земного шара. Сбывшиеся мечты однако часто разочаровывают. Выяснилось, что мы не состоянии справиться с этой лавиной информации, и то, что должно было объединять, сплачивать и освобождать, разделяет, ограничивает, запирает каждого в своем пузыре и вызывает к жизни потоки слов, плохо сочетающихся, а то и вовсе непримиримых.
К тому же Интернет, беззастенчиво захваченный рынком и отданный игрокам-монополистам, располагает гигантскими объемами данных, которые используются вовсе не «пансофийно», с мыслью о широком доступе к знанию, а прямо противоположным образом, работая на программирование пользовательских реакций, — после истории с Cambridge Analytica это теперь известно каждому. Мы ждали услышать гармонию сфер, но услышали какофонию звуков, невыносимый шум, в котором отчаянно пытаемся разобрать хоть какую-то мелодию, пусть слабый, но ритм. Парафраз шекспировской цитаты описывает эту какофоническую реальность идеально: Интернет чем дальше, тем больше напоминает рассказ, рассказанный кретином, полный шума и ярости. Да и исследования политологов, увы, расходятся с прозрениями Яна Амоса Коменского, основой которых оставалась уверенность, что чем шире свободный доступ к знанию, тем разумнее ведут себя политики, тем более взвешенными оказываются их решения.
Похоже, все обстоит не так просто. Знание способно подавлять, а его сложность и неоднозначность вызывают к жизни защитные механизмы — от отрицания и вытеснения до спасения в простоте мысли примитивизирующей, идеологической, партийной.
Жанр фейковых новостей и фейкапов заново ставит нас перед вопросом, что такое фикция. Читатель, не раз и не два позволивший себя провести, дезинформировать, надуть, мало-помалу обзаводится своего рода идиосинкразией. Реакцией на подобную усталость от фикции может быть небывалый успех литературы нон-фикшн, которая в этом грандиозном информационном хаосе вопит над нашими головами: «клянусь говорить правду и только правду», «моя повесть опирается на факты».
Вымысел потерял доверие читателей с тех пор, как ложь сделалась опасным оружием массового поражения, пусть и весьма примитивным. Слишком часто приходится мне слышать этот недоверчивый вопрос: «Правда ли то, что вы написали?» И всякий раз я не могу избавиться от ощущения, что он предрекает конец литературы. Этот невинный, как кажется читателям, вопрос для писательского уха звучит в самом деле апокалиптически. Что я могу ответить? Как объяснить онтологический статус Ганса Касторпа, Анны Карениной или Винни-Пуха? Такой род читательского любопытства представляется мне цивилизационным откатом. Это обделенность способностью многомерного (конкретного, исторического, но вместе с тем и символического, мифического) участия в цепи событий, именуемых нашей жизнью. Жизнь складывается из событий, но только когда мы сумеем дать им истолкование, попытаемся понять и наделить смыслом, они станут опытом.
События остаются фактами, что же до опыта, он представляет собой нечто иное, плохо поддающееся определению. И именно он, не событие является плотью нашей жизни. Опыт — это факт, прошедший через истолкование и укоренившийся в памяти. Он апеллирует к основаниям нашей умственной деятельности, к глубинной структуре значений, на которой мы распяливаем собственную жизнь, чтобы разглядеть ее во всех деталях. Я верю, что в роли такой структуры выступает миф. Миф, как известно, — это то, чего никогда не было, но что происходит всегда. Сегодня он сбывается уже не только в деяниях античных героев, но проникает в вездесущий мир популярных фильмов, игр, литературы. Жизнь обитателей Олимпа переместилась на съемочную площадку «Династии», а с подвигами прекрасно справляется Лара Крофт.
К этому горячечному стремлению развести правду и фальшь рассказ о нашем опыте, создаваемый литературой, подходит с собственной меркой. Признаться, я никогда не была энтузиасткой простого разделения на фикшн и нон-фикшн, разве что мы примем его исключительно как рабочее и недолговечное. Из множества определений вымысла мне по вкусу самое раннее, то, что восходит еще к Аристотелю.
Вымысел — это всегда особый род правды. Меня дополнительно убеждает в этом разграничение простой констатации и сюжета, предпринятое прозаиком и эссеистом Эдвардом Морганом Форстером. Он писал, что, когда мы говорим: «Умер муж, потом умерла жена», — мы излагаем факты, и только. Когда же мы говорим: «Умер муж, а за ним от печали умерла жена» — перед нами вымысел. Любое сюжетное движение представляет собой переход от вопроса «что было потом» к попытке понимания, опирающейся на наш человеческий опыт, — «почему это произошло».
Литература начинается с этого почему, даже если нам пришлось бы многократно ответить на него тривиальным «не знаю». Литература, как видим, задает вопросы, на которые не получается ответить, прибегнув к Википедии, поскольку они не умещаются в плоскости фактической и событийной и требуют переживания в нашем собственном опыте.
Впрочем, не исключено, что роман и литература как таковая на наших глазах становятся чем-то решительно маргинальным и уступают место иным повествовательным практикам. Возможно, визуальный образ и новые формы непосредственной передачи опыта: кино, фотография, виртуальная реальность и augmented reality — станут серьезной альтернативой традиционному чтению. Ведь чтение с психологической точки зрения представляет собой весьма непростой процесс. Упрощая дело, его можно описать следующим образом. Сначала мы концептуализируем и переводим в слова неуловимое существо жизни, упаковываем его в знаки и символы, а дальше занимаемся его дешифровкой, чтобы снова обратить то, что стало словом, в опыт.
Все это требует определенных интеллектуальных навыков, а прежде всего — внимания и сосредоточения, способностей, все более редких в наши времена всеобщей рассеянности. Человечество прошло долгий путь, уточняя способы передачи и распространения опыта: от устной речи, целиком отданной во власть памяти, до Гутенберговой революции, когда рассказ обрел посредника в лице печатного листа и превратился в сообщение, передаваемое без потерь. Самым выдающимся достижением на этом пути был момент, когда мы уравняли мышление как таковое с письмом, иначе говоря, определенным типом использования идей, понятий и символов. Сегодня, и это очевидно, мы стоим перед лицом не менее масштабной революции: теперь опыт можно передавать непосредственно, не прибегая к помощи печатного слова.
Нет никакой необходимости вести дневник путешествий, если можно фотографировать и отправлять снимки в мир через соцсети, в ту же минуту и абсолютно для всех. Нет нужды в письмах, ведь звонить намного удобней. Зачем читать толстые романы, когда так соблазнительно погрузиться в сериал? Так ли нужна встреча с друзьями, если можно скоротать вечер за играми? Читать биографии? Какой смысл, я и без того слежу за жизнью селебритис в Инстаграме и знаю о них все. Уже не изображение выступает сегодня главным соперником текста, как казалось XX веку, обеспокоенному вторжением кино и телевидения. Перед нами совершенно иная шкала переживания опыта — непосредственно воздействующая на нашу чувствительность.
Я далека от намерения представить здесь целостную картину кризиса, который переживает наша способность описывать мир. Однако меня не оставляет ощущение, что этому миру чего-то недостает. Что в тот момент, когда мы начинаем с ним взаимодействовать сквозь экранное стекло, в приложениях, он становится каким-то малореальным, далеким, двухмерным, ускользающим от определения, и это несмотря на то, что отыскать какие угодно конкретные сведения в нем поразительно легко. Мучительные «кто-то», «что-то», «где-то», «когда-то» могут стать сегодня более опасными, чем провозглашаемые с абсолютной уверенностью вполне конкретные и внятные максимы: земля плоская, прививки убивают, глобальное потепление — чушь, а демократии в большинстве стран ничто не угрожает. «Где-то» тонут «какие-то» люди, пытаясь переплыть море. «Где-то» с «какого-то» дня идет «какая-то» война. В потоке информации единичные сообщения теряют контуры, расплываются в памяти, утрачивают связь с реальностью и, наконец, исчезают.
Подстерегающие нас на каждом шагу картины насилия, глупости, жестокости, прорывающийся язык ненависти отчаянно пытаются уравновесить разного рода «хорошие новости», но и они не в силах одолеть зудящего беспокойства, которое не так просто облечь в слова. Что-то с нашим миром не так. Это ощущение, зарезервированное когда-то исключительно за сверхчувствительными поэтами, просачивается сегодня отовсюду, оказывается разделенной со всеми неуверенностью. Литература принадлежит к тем немногочисленным занятиям, которые пытаются удержать всю полноту и конкретность переживания мира, ведь по природе своей она всегда «психологична». Да и как иначе, если в фокусе ее внимания всегда внутренние резоны и мотивировки действий персонажей, а сама она занята именно тем, что проявляет их опыт, ни в какой другой форме нам недоступный, или же подталкивает к психологическому объяснению их реакций. Только литература дает нам возможность так глубоко войти в жизнь другого, понять его резоны, разделить чувства, пережить судьбу. Повествование всегда сосредоточено на смысле. Даже там, где это неочевидно, где перед нами манифестированный отказ от поисков смысла, где все затеяно ради формы, эксперимента, где в попытке отыскать новые экспрессивные возможности совершается формальный бунт.
Читая пусть минималистский, программно бихевиористский роман, мы все равно не в силах удержаться от вопросов, почему это происходит, что все это значит, в чем смысл, к чему то или иное сказано. Не исключено даже, что наше сознание эволюционировало к описанию как процессу наделения смыслом несчетных раздражителей, с которыми мы имеем дело, и даже когда мы спим, оно без устали прядет свою словесную ткань.
Итак, повествование — это упорядочивание во времени безмерных объемов информации, уточнение их связи с прошлым, настоящим и будущим, открытие их повторяемости и установление между ними причинно-следственных связей. В этой работе задействованы и эмоции, и разум. Ничего удивительного, что одним из первых открытий в области повествования стал рок, который, пусть и являлся всегда в обличье диковинном и нечеловеческом, сообщал однако же действительности порядок и постоянство.
Господа, женщина с фотографии, моя мама, скучавшая по мне, которой еще нет, через несколько лет станет читать мне сказки. В одной из них, принадлежащей перу Ханса Кристиана Андерсена, выброшенный на помойку чайничек жалуется, как жестоко с ним поступили — люди избавились от него, как только у него отвалилась ручка. А ведь он мог бы еще служить им верой и правдой, если бы люди не были столь требовательными и так неистово не жаждали бы совершенства. Ему вторят другие сломанные вещи, наперебой предлагая настоящие эпические сказания из своей малой вещной жизни. Ребенком я слушала эти сказки с пылающими щеками, и слезы стояли у меня в глазах: я не могла не верить, что у предметов есть собственные несчастья, чувства и даже какое-то подобие общественной жизни, вполне соотносимой с нашей. Тарелки в буфете могли вступать в беседу, ложки, ножи и вилки в ящике были связаны, как члены семьи.
Но точно так же и животные были таинственными, мудрыми, наделенными сознанием существами, с которыми нас испокон веков связывали духовные узы и глубоко укорененное сходство. И у рек, лесов, дорог имелась собственная жизнь — все они были существами, которые размечают наше пространство и создают ощущение причастности, таинственный Raumgeist. Живыми были окружающий нас пейзаж, и Солнце, и Луна, и каждое небесное тело. Видимым же всем и невидимым. Когда я начала в этом сомневаться?
Пытаюсь отыскать в своей жизни ту минуту, когда как по одному клику все стало другим — более простым, без нюансов. Шепот мира сошел на нет, заглушенный гулом города, стрекотанием компьютеров, грохотом пролетающих над головой самолетов и изматывающим белым шумом океанов информации. В какую-то минуту мы начинаем видеть мир фрагментарно, в осколках, отстоящих друг от друга на галактические расстояния, а реальность, в которой мы живем, на каждом шагу как будто специально взялась подтверждать это: врачи лечат нас в соответствии со своей специализацией, налоги не имеют ничего общего с чисткой улиц, которыми мы добираемся на работу, обедая, мы не обязаны думать о животноводческих концернах-гигантах, а надевая новую блузку — о неуютном цехе где-нибудь в Азии. Все разделено, все живет наособицу, со всем утрачена связь.
Чтобы проще было это вынести, нам раздают номерки, бейджи, карточки, топорные пластиковые идентичности, нас пытаются редуцировать, свести к роли пользователя всего одной части целого, которое мы перестали воспринимать таковым. Мир вокруг умирает, а мы даже не замечаем этого. Не замечаем, что он превращается в нагромождение вещей и событий, мертвое пространство, в котором мы перемещаемся, одинокие и потерянные, ведомые чужими решениями, обезволенные непостижимым роком, обреченные ощущать себя игрушкой большой истории или случая. Духовное в нас истончается, переходит в поверхностное и ритуальное. Что остается — перейти на сторону простых сил, физических, социальных, экономических, которые обращаются с нами так, словно мы зомби.
И в таком мире мы в самом деле зомби. Вот почему я так тоскую по тому, где все еще живет андерсеновский чайничек.
Всю жизнь меня восхищают совпадения и влияния, в которых мы, как правило, не отдаем себе отчет, и открываем их внезапно, как поразительные стечения обстоятельств, сродство судеб, — все эти стяжки, винтики, швы и спайки, к которым в свое время я приглядывалась в «Бегунах». Восхищают соответствия и поиски закономерности. По существу, и в этом я твердо уверена, писательское мышление работает в категориях синтеза, отсюда это упрямое коллекционирование любых мелочей и попытки заново склеить из них целое.
Как писать, как построить повествование, способное представить эту гигантскую, сродни звездному небу с его гармонией, форму? Разумеется, как и все, я отдаю себе отчет, что возвращение к тому типу сюжетосложения, какой памятен нам из мифов, легенд и сказаний, когда рассказ, передаваемый из уст в уста, поддерживал равновесие мира, уже невозможен.
Сегодня такое повествование должно быть куда более усложненным и многомерным. Мы располагаем совсем иным знанием, нам внятны связи между явлениями, на первый взгляд, не имеющими ни малейшего сходства. Приглашаю вас приглядеться всего к одной точке мировой истории. Итак, перед нами 3 августа 1492 года, день, когда из испанского порта Палос отчаливает каравелла «Санта-Мария». Капитана зовут Христофор Колумб. Сияет солнце, матросы еще слоняются по набережной, портовые рабочие в спешке грузят на судно последние ящики с провизией. День жаркий, к счастью, западный бриз спасает пришедших проститься родственников от дурноты. Чайки церемонно прохаживаются по пирсу, внимательно приглядываясь ко всему, что делают люди.
Минута, которую мы видим сквозь толщу времени, приведет к смерти пятидесяти шести миллионов из шестидесяти живущих на планете коренных американцев. Их популяция составляла тогда около десяти процентов населения Земли. Не подозревая об этом, европейцы везли с собой смертельные дары — болезни и бактерии, против которых у обитателей американского континента не было иммунитета. Прибавим сюда же беззастенчивые убийства и угон в рабство. Геноцид длился годами и изменил облик этой земли. Туда, где росли фасоль и кукуруза, картофель и помидоры, на окультуренные, орошаемые поля вернулись дикие растения. Без малого шестьдесят миллионов гектаров сельскохозяйственных земель покрыли джунгли. Растительность регенерировала, поглотила огромные запасы углекислого газа, что привело к ослаблению парникового эффекта. Результатом этой цепочки событий стало снижение глобальной температуры Земли.
Это только одна из множества гипотез, объясняющих наступление малого ледникового периода, который спровоцировал в конце XVI века значительные климатические изменения. Малый ледниковый период радикально изменил европейскую экономику.
Долгие морозные зимы, холодные летние месяцы и обильные осадки в течение нескольких десятилетий снизили эффективность традиционных способов возделывания земли. Малые хозяйства на западе Европы, обеспечивавшие продовольствием одну семью, уже не справлялись с этой задачей. Голод выдвинул на повестку дня потребность в специализации производства. Англия и Голландия, сильнее других ощутившие последствия похолодания, больше не могли делать ставку на сельское хозяйство и принялись развивать промышленность и торговлю. Постоянная угроза затопления вынудила голландцев заняться осушением низинных земель и превращением плоских участков морского дна в сушу. Смещение к югу ареала трески, катастрофическое для Скандинавии, оказалось на руку Англии и Голландии — толчок к превращению в морские торговые державы был получен. Особо болезненно пережили похолодание скандинавские страны. Прервалась связь с зеленой Гренладией и Исландией, суровые зимы заморозили урожаи, пришли голод и нужда. Швеция обратила алчный взор к югу, затеяла войну с Польшей (сыграло на руку и то, что по замерзшему Балтийскому морю теперь проще было перебрасывать войска) и вступила в Тридцатилетнюю войну.
Ученые, пытающиеся уточнить наше понимание того, как устроен мир, описывают его как густую, плотной вязки сеть взаимных влияний. Это уже не известный всем «эффект бабочки», который, как помним, состоит в том, что минимальное изменение на начальной стадии процесса может обернуться колоссальными непрогнозируемыми последствиями, но неисчислимое множество бабочек, трепещущих крыльев, их неостановимое движение. Могучая волна жизни, напирающая сквозь время.
Полагаю, открытие «эффекта бабочки» завершает эпоху непоколебимой уверенности человека в собственных созидательных возможностях и способности держать мир под контролем, а значит, кладет предел его неограниченному господству. Сказанное ничуть не умаляет роли человека-строителя, человека-открывателя, человека-изобретателя, однако дает понять, что окружающий нас мир устроен сложнее, чем представлялось когда бы то ни было. И что сами мы только малая часть этих процессов.
В наших руках все больше подтверждений того, какими поразительными соответствиями прошит мир, теперь уже в масштабах целой планеты. Все мы: люди, растения, животные, предметы — вращаемся в едином пространстве, где главенствуют законы природы. У этого пространства общий арсенал первообразов, природа же, орудуя своим резцом, являет нам бесчисленное множество форм, окликающих друг друга. Наша кровеносная система напоминает дельту реки, в строении листа проглядывают схемы городских коммуникаций, в движении галактик — воронки умывальников, в которые стекает вода. Развитие обществ — колонии микроорганизмов. Микро- и макромиры демонстрируют непостижимое число подобий. Наши язык, мышление, творчество не существуют как нечто оторванное от этого единства, но поддерживают на ином уровне эту неукротимую волю к трансформациям.
Находясь здесь, я не перестаю думать о том, возможно ли сегодня отыскать основания для нового типа повествования — универсального, целостного, не знающего деления на свое и чужое, укорененного в природе, помнящего о корнях и контекстах и одновременного открытого, понятного всем. Возможно ли повествование, выходящее из одиночной камеры собственного «я», открывающее простор действительного мира и обнаруживающее эту сеть соответствий? Такое повествование, которое сумело бы отклониться от истоптанной тривиальной прямой «всеми разделяемых суждений» и подойти к делу экс-центрически, из точки вне центра?
Меня в самом деле восхищает то, каким чудом удалось литературе сохранить за собой право на всяческую эксцентрику, на фантасмагорию, провокацию, гротеск и безумство. Хочется помечтать об иных, более широких перспективах, о возносящихся точках обзора, которые позволят думать о контекстах, далеко превосходящих ожидаемое. Хочется увидеть в мечтах язык, способный выразить даже неясные предчувствия, дразнит метафора, не стесненная культурными границами, манит жанр, одновременно лаконичный и готовый обновляться и, конечно, такой, чтобы пришелся читателю по душе.
Является мне в этих мечтах и новый тип повествователя — от «четвертого лица», такой, что не сводится, понятно, к какому-то грамматическому конструкту, но способен заключить в себе точку зрения каждого из персонажей, а еще выйти за кругозор любого из них, тот, кто видит больше и шире, кто отменяет время.
О да, его существование возможно. Задумывались ли вы когда-нибудь, кто он, тот удивительный рассказчик, которому принадлежит великий библейский голос: «В начале было Слово»? Тот, кто повествует о сотворении мира, его первом дне, когда хаос был отделен от порядка. Тот, кто смотрит сериал рождения космоса. Кому ведомы мысли Бога и его сомнения, кто недрогнувшей рукой выводит это неслыханное — «И увидел Бог, что это хорошо». Кто он, знающий, о чем думает Бог?
Оставим в стороне теологические дискуссии, и тогда останется только признать этого загадочного, наделенного небывалой чуткостью повествователя существом необыкновенным и знаменательным. Вот она, точка, перспектива, из которой видно все. Видеть все — это принять существование взаимной связи вещей, даже если траектории этих связей нам пока не внятны. Видеть все подразумевает и совсем иной род ответственности за мир, поскольку очевидно теперь, что каждое движение «здесь» связано с откликом «там», что решение, принятое в одной части мира, аукнется в другой его части, что граница между «моим» и «твоим» стирается сама собой.
Задача, следовательно, состоит в том, чтобы, не таясь перед читателем, предложить ему повествование, способное пробудить это чувство целого, умение составлять из лоскутов единый рисунок, открывать созвездия в рутинных мелочах. Плести историю так, чтобы не оставалось сомнений, что все мы пребываем в едином пространстве воображения, которое с каждым поворотом Земли старательно обновляем в собственных головах. И у литературы есть эта сила. Стоило бы только оставить упрощающее дело разделение на литературу высокую и низкую, нишевую и популярную, не требовать с таким упорством жанровой чистоты.
А еще отказаться от определения «национальные литературы», окончательно приняв на веру, что космос литературы един в той же мере, что и идея unus mundus, общей психической реальности, возможной благодаря единству человеческого опыта, что же до Автора и Читателя, их роли равно важны, поскольку одному выпало создавать, а другому истолковывать созданное. Не исключаю, что пришло время с бóльшим доверием отнестись к фрагменту, ведь именно фрагменты создают конфигурации, способные передать больше и точнее, вести повествование сразу в нескольких измерениях. Наши истории могли бы отразиться друг в друге, и даже не единожды, а между их героями наметились бы отношения, о которых мы не подозревали. Полагаю, нас ждет переопределение того, что стоит понимать под реализмом, и поиски формулы, позволяющей выйти за границы собственного эго и проникнуть по ту сторону экрана, сквозь который мы видим мир.
Потребность в реальной жизни удовлетворяют сегодня медиа, социальные сети и непосредственное общение в Интернете. Может быть, то, что неотвратимо нас ждет, это своего рода неосюрреализм, заново разъятая точка зрения, бесстрашная перед лицом парадокса и готовая устоять в потоке причинно-следственных банальностей. О да, наша реальность уже вполне сюрреальна. Еще я уверена, что множество сочинений должно быть перелицовано в новых интеллектуальных обстоятельствах, в перспективе нового научного знания. Но не менее важной представляется мне возобновляемая на каждом шагу связь с мифом и всем арсеналом человеческого воображаемого.
Такое возвращение к плотным структурам мифа могло бы дать ощущение устойчивости в той неопределенности, в какой все мы сегодня пребываем. Да, я верю, что мифы представляют собой строительную основу нашей psyche, и обойтись без них невозможно (можно разве что не отдавать себе отчет в их существовании). Наверняка совсем скоро появится гений, который сумеет выстроить совершенно новую, непредставимую пока повествовательную структуру, где найдется место всему, что действительно важно.
Эта новая повествовательная манера изменит и нас: уйдут в прошлое старые, ограничивающие зрение перспективы и откроются новые, существовавшие, впрочем, всегда, но до времени от нас скрытые. Томас Манн в «Докторе Фаустусе» говорит о композиторе, изобретающем новую абсолютную музыку, способную изменить мышление человека. Ничего не сказано об основаниях этой музыки, речь в романе идет лишь о том, как она могла бы звучать. Вероятно, именно в этом и заключается роль художника — намекнуть на то, что могло бы существовать, и так помочь ему быть помысленным. А то, что помыслено, воображено, уже на пути к тому, чтобы воплотиться.
Я работаю с вымыслом, но эта фикция не высосана из пальца. Когда пишу, мне требуется все пропустить через себя. Понять изнутри каждое существо, каждую вещь в книге, все человеческое и нечеловеческое, все живое и обделенное жизнью. К каждому лицу и предмету я должна присмотреться вблизи, со всем возможным уважением, и сохранить их личный отпечаток, след их неповторимого присутствия. Именно здесь и требуется чуткость — искусство оживления, со-чувствования, а значит постоянного поиска подобий.
Плести повествование и есть шаг за шагом оживлять, одаривать бытием все эти крупицы мира: пережитые ситуации, случаи, воспоминания. Чуткость видит единичное во всем, к чему обращается, она готова все выслушать, найти пространство и время, чтобы все сбылось и выразило себя. Это благодаря ей чайник начинает говорить. Скромница чуткость — самая неприметная разновидность любви. Это то ее обличье, которое не отыщешь ни в ученых трудах, ни в литургии, ей не присягают, ею не клянутся. Нет у нее ни герба, ни эмблемы, она не толкает на преступления, не будит ревность. Мы встречаемся с ней в ту минуту, когда с ответственным вниманием вглядываемся в чужое присутствие, в то, что не «я».
Чуткость порывиста и бескорыстна, а ее сила намного превосходит эмпатическое сочувствие. Скорее это сознательная, пусть и с оттенком меланхолии, готовность разделить судьбу. Чуткость — глубокая взволнованность бытием другого, его хрупкостью и неповторимостью, его уязвимостью перед страданием и бегом лет. Чуткость замечает связывающие нас нити, обнаруживает подобия и родство. Это то зрение, которому мир открывается живым, во всем многообразии пронизывающих его токов, где все готово сотрудничать со всем и каждый не полон без другого. В основе литературы лежит чуткость к любому отличному от моего бытию. Таков фундаментальный психологический механизм романа. Благодаря этому чудесному инструменту, самому совершенному способу человеческой коммуникации, наш опыт путешествует во времени и становится достоянием тех, кто еще не родился, но кто когда-нибудь заглянет в то, что мы рассказали о себе самих и о своем мире.
Не могу представить, как будет выглядеть их жизнь, какими они будут. Все чаще я думаю о них с чувством вины и стыдом. Климатический и политический кризис, перед лицом которого мы оказались и который пытаемся преодолеть, не взялся ниоткуда. Часто мы забываем, что это не рок, не превратности судьбы, нет, здесь перед нами результат вполне определенных действий экономического, социального, мировоззренческого (добавлю — и религиозного) характера. Алчность, неуважение к природе, эгоизм, недостаток воображения, погоня за первенством и безответственность привели к тому, что мир оказался низведен до положения вещи, которую можно рвать на клочки, употреблять, уничтожать.
И поэтому я верю, что должна писать так, как если бы мир был живым, без устали становящимся на наших глазах единством, а мы — его малой и одновременно могучей частью.
Перевод Елены Рыбаковой
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости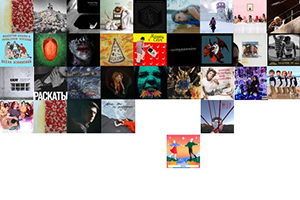 Современная музыка
Современная музыкаСергей Мезенов называет 13 лучших российских альбомов 2021-го и предлагает послушать плейлист хороших песен года
11 января 20223679 Искусство
Искусство Общество
ОбществоВпервые в сети — документальный фильм Владимира Непевного об одном бизнесе, построенном на пандемии
3 января 20221857 Литература
ЛитератураНовогодний подарок читателям COLTA.RU — новая повесть Линор Горалик. С наступающим!
28 декабря 20211782 Искусство
Искусство Общество
Общество Colta Specials
Colta SpecialsБольшой комикс о современности, действие которого разворачивается в условном государстве
28 декабря 2021246 Литература
Литература Современная музыка
Современная музыкаЗапрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
28 декабря 20214068 Театр
Театр Театр
Театр Искусство
ИскусствоАлександра Селиванова о халтуре, интимности и художественном методе самого легкого из вхутемасовцев
27 декабря 20211637