 Театр
ТеатрУдаленное время
 © Евгений Никитин
© Евгений НикитинЭти стихи вначале появились в «Воздухе», в четвертом номере за 2011 год. Каждый номер «Воздуха» открывается большой подборкой стихотворений «автора номера», крупной фигуры на поэтической карте, и когда наконец вышел «номер Айзенберга», показалось странным, что этого не произошло раньше. Дело, возможно, в том, что стихи Айзенберга обычно появляются большими массивами — запечатленными этапами поэтической биографии, с которыми, вероятно, поэту непросто расстаться. На презентации «Воздуха» он читал эти новые стихи, как обычно, негромко и настойчиво, отрешившись от всего происходящего вокруг. Было видно, насколько он в этот момент один — что вполне соответствует и его положению в русской поэзии: безоговорочно уважаемый, кажется, всеми, чуткий к происходящему, внимательный и доброжелательный к новым именам, находящий в своей эссеистике точнейшие слова для описания как времени, так и поэтики — и при этом совершенно обособленный. Идеальный наблюдатель, чувствователь-для-себя, приоткрывающий и для нас завесу над сложным процессом своего мышления, над своими ощущениями.
Журнал «Воздух» для стихов Айзенберга был подходящим местом еще и потому, что собственно воздух — ключевой образ его поэзии. В отзыве на обложке сборника «Справки и танцы» Мария Степанова называет книги Айзенберга «чем-то вроде пробы воздуха, которую берут у времени, которое еще только собирается наступить». Я не уверен, насколько это точно для ранних книг Айзенберга, написанных внутри застывшего времени 1970—1980-х — эпохи, которая лучше всего была выражена именно в его эссеистике. Но правда в том, что уровень сложности и герметичности поэзии Айзенберга служит индикатором загрязненности воздуха времени — при том что сами стихи областей социального и политического касаются редко и, как правило, вскользь. Стихи Айзенберга позднесоветского периода — одни из самых темных во всей тогдашней поэзии. Это стихи человека, который отгородил свой мир от постылого внешнего мира непроницаемым коконом. Не всегда понятны звучащие здесь намеки — от малодоступных культурных референций до конкретной географии местности, в которой существует поэт. Выход наружу чреват отравлением: «Душно. И так выпрямляется грудь, / словно растет погребальная урна…» Стихи 1990—2000-х (книги «За красными воротами», «В метре от нас», «Рассеянная масса») — напротив, все ближе к полюсу ясности: «Человек, пройдя нежилой массив, / замечает, что лес красив, / что по небу ходит осенний дым, / остающийся золотым»… В новой книге, «Справки и танцы», темнота опять сгущается.
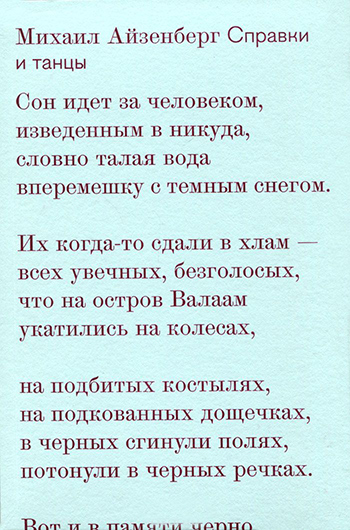 © Новое издательство
© Новое издательствоСвязь поэтической герметичности с полнотой или разреженностью (чистотой или загазованностью) общественной атмосферы кажется вульгарной, только если забыть, что поэт ходит по тем же улицам и дышит тем же воздухом, что и все остальные. А если об этом не забывать, то такая связь покажется и вынужденной, и благородной, и трагичной. Она свидетельствует о ежедневной работе с сиюминутным и долговременным — поэт не обладает (по счастью) инструментарием политического аналитика, гораздо чаще ненадежным, чем точным, а обладает внутренним чутьем, так что эту работу можно сравнить с сортировкой деталей вслепую. Сама «возможность высказывания» у Айзенберга строится на ненадежной, невозможной опоре, которая, однако, становится единственно надежной и возможной: «Не случайность, а возможность / между признаков бескостных, / что теряет осторожность / и цепляется за воздух». Дыхание, такое простое и незаметное, в критических ситуациях материализуется, и его можно уподобить ступеням, по которым поднимается жизнь (а в одном хорошем научно-фантастическом романе дыхание названо «серией непрерывных взрывов»).
Давайте посмотрим для начала, что происходит с образом воздуха в «Справках и танцах». Воздух появляется в первом же стихотворении, но еще не находится в центре образного ряда: «береза воздух берет обратно» — с помощью тройной паронимической аттракции, проводящей ассоциацию между «береза», «брать» и «обратно», Айзенберг заставляет дерево впитывать воздух; береза — действительно одно из самых «воздушных», легких на вид деревьев, но, кроме того, одна эта деталь-предположение уже вводит тревожную тему обезвоздушивания: брать воздух обратно означает совершать какой-то обратный фотосинтез, заменяя кислород углекислым газом. В последующих стихотворениях тревога будет названа прямо: «Озон мешается с тревогой…» — а тема ухода, втягивания воздуха разовьется:
как, пустоту одолевая,
в подземный город без огней
уходит шахта лифтовая;
как воздух тянется за ней.
Воздух, связанный с лифтовой шахтой, становится частью рукотворного механизма, сложной системы, притом явно недоброй к человеку. Этот мотив развивается и в «летнем» цикле «Июнь—июль», начинающемся почти пасторально («Ну а ты, такая кругленька, / в серо-бежевом плаще / сверх карминного нагрудника — / ты малиновка вообще?»). Летняя духота, однако, здесь подается через образы механики: «Вот и жди, когда распустятся воздушные тиски…», «на воздушном чертеже», «Скрипы ворота воздушного». Тот же техницизм — в цикле «Июль—август»: «распустится воздушная петля», «Воздух кучами навален». Стихи, судя по всему, относятся к лету 2010 года, когда в России бушевали знаменитые лесные пожары и Москва действительно была завалена «дымом ядовитым». Стояла страшная жара, и далеко не во всех пожарах были виноваты люди, но само бедствие стало, как и многие стихийные бедствия, социальным индикатором: тезис об удушливости («новой удушливости») воздуха подтверждался буквально. Концептуалист назвал бы это реализацией метафоры, но Айзенберг работает тоньше. Его стихи не плакатны, их нельзя мыслить как объекты в рамках выставки, сопрягающей природное явление с социальным контекстом. Вместо этого он создает лирический дневник, в котором сама за себя говорит сгущающаяся атмосфера.
Противопоставлен этому недоброму воздуху воздух пленительный и животворящий:
Живительного воздуха пласты,
стрекозами развернутые ткани;
расходятся зеленые листы
и воздух пьют мельчайшими глотками.
Можно было бы говорить о том, что в стихах Айзенберга есть два воздуха: один добрый, другой злой, один тревожный, другой безмятежный, и оба деятельные («и воздух в темноте снимает мерку»). Но воздух — это универсальная среда, и рассуждать можно скорее о разных ее состояниях. Сейчас часто говорится — и я люблю эти разговоры — о поэзии как роде исследования, о том, что поэт становится оптикой. У Айзенберга к набору увеличительных линз прилагаются приборы для измерения плотности и загазованности воздуха, а еще — эмоционального фона, который он создает. У первых двух приборов, по-моему, есть названия (и, кажется, довольно некрасивые), у третьего нет. Можно назвать его в честь создателя, о чьих стихах мы ведем беседу.
Связь единства и двойственности может привести к слову «диалектика», которое поколению Айзенберга набило оскомину. Впрочем, мы можем попробовать оживить это понятие, применив его не к Гегелю и Марксу, а к чему-то мифологическому: так день и ночь, солярное и лунарное в мифе оказываются двумя половинами круга. Именно в этом контексте можно рассмотреть название «Справки и танцы»: казенное и строгое против стихийного, искреннего, вакхического. Это один из важных конфликтов в поэзии Айзенберга, и всякий раз в нем сторону «официального» занимает человек, а сторону стихийного — разумеется, силы природы. В таких ранних стихах, как «Я видел свет и кочевать забросил…», «Вся земля уже с наклейками…», «Вот город, раскрашенный в шашку…», «Что кроме клекота водопровода…», человеческие дела, вроде бы хорошие и правильные (караульная служба, честное ремесло, городское движение жизни), неизменно мешают гармонии, которая готова опуститься над сценой. Эта гармония может быть даже «скучней половика», но внутри нее происходят тонкие процессы (вода тянется к водосборам, береза воздух берет обратно), которые легко нарушить. Вариант эскапизма (а эскапизм — важная вещь для большого поэта) показан в таких стихах, как знаменитое «Человек, пройдя нежилой массив…»: можно стать частью экосистемы — пусть только она будет милосерднее:
А что земля как приоткрытый ящик
в другое лето выпустит на нас?
О, только бы чудовищ настоящих
поберегла, оставив про запас.
Первое столкновение уродливо-искусственного с естественным в «Справках и танцах» совершается во втором стихотворении сборника «Сон идет за человеком…», вынесенном на обложку. Парадоксально, что уродство здесь проявляется в избавлении от уродства, постыдном историческом факте: инвалидов войны отправляли на остров Валаам, где они доживали остаток дней в ужасных условиях (там их запечатлел в известной серии рисунков художник Геннадий Добров). Вместе с тем валаамский сюжет в стихотворении Айзенберга — лишь сравнение, иллюстрирующее душевное состояние, уподобляемое, в свою очередь, дурному сну (текущей реальности), где говорящий вынужден пить «хлебное вино» «на пиру у людоедов». Онейрический мотив в поэзии Айзенберга почти так же важен, как мотив воздуха, и так же амбивалентен. Сон может быть формой блаженного эскапического ухода (каковым он, собственно, и является биологически: средством перехода в новый цикл активности): «И опять начинается сон, / призывающий старших» — или, из соседнего стихотворения о земле: «А теперь из травы забытья / привстает, невредима, / говорит, что и ты не судья, / и она не судима». Но он может быть, как в стихотворении «Сон идет за человеком…», и темным мороком, от которого невозможно очнуться.
Мне кажется, давно назрел разговор о новом стоицизме в русской поэзии: появилось достаточно поэтов, которых можно назвать стоиками.
Сну свойственна неявная сюжетность, подобная той, которую мы встречаем в стихах этой книги. Стихотворение «Стекла нового патрульного…», заканчивающееся непривычной для Айзенберга прямолинейной сентенцией «Это я стихи о родине. / Это если вы не поняли», выглядит именно как сон и его интерпретация: образ полунищей женщины, занимающейся в Москве унизительной работой, становится образом Родины. Это стихотворение явственно перекликается с одним из самых известных стихотворений Сергея Гандлевского — «Не сменить ли пластинку? Но родина снится опять…», построенным как описание «перспективы из снов: сон во сне, сон во сне, сон во сне». У Гандлевского появляется мотив вины «в несчастиях родины этой», которую будто бы берет на себя случайно встреченная старуха. У Айзенберга вина не названа напрямую, зато есть обвинение: «на ближайшем повороте вы / на нее глаза не подняли». Инвектива в адрес читателя — резкий, практически болевой прием, моментально вытаскивающий из состояния сна. Внезапное пробуждение или внезапное раздражение поэта? Это стихотворение, на мой взгляд, не принадлежит к лучшим в книге, но, невзирая на все сказанное ранее, существенно корректирует устоявшееся представление об Айзенберге как о «тихом» поэте.
В стихах первой части книги встречается и дидактика, разговор на уровне обобщений, свойственных, например, Пастернаку: «Отставшего и случай бережет, / и время добавляют для отставших». Связь Айзенберга с Пастернаком — вообще очень интересная тема, требующая изучения. Подробно вдаваться в нее здесь нет возможности, но следует отметить (вынужденно огрубляя), что оба поэта проходили путь «от сложного к простому». Непрозрачность ранних стихов Айзенберга в этой схеме соответствует пастернаковским темнотам 1910-х, кристальная же ясность айзенберговских стихов 2000-х — «неслыханной простоте» позднего Пастернака. Но здесь в наше сравнение опять вмешается вульгарный социологизм: самые усложненные стихи Пастернака написаны в свободные, по меркам дальнейших событий, 1910-е, простота же стала его кредо в жесточайший период русской истории. Это, пожалуй, парадокс. Герметизм раннего Айзенберга служит чем-то вроде духовной брони в удушливые 1970-е, начиная же с 1990-х в нем отпадает необходимость. Это более гармоничная модель, напоминающая скорее (только, по счастью, в обратном порядке) эволюцию поэтики Мандельштама. Выше мы уже отметили, что «Справки и танцы» обозначают новый поворот к более темному стилю, к объекту, ускользающему от дешифровки:
В темном ее не узнаешь, в светлом
То темна она, то светла
Тает в облике самом бедном
Слезоточица и кручина
Жизнь, которая не была,
в самом деле неизлечима
Разделил бы ее, да не с кем,
и забыть ее не смогу —
просиявшую мягким блеском,
словно закутанную в фольгу.
В свете всего этого такие стихи, как «Стекла нового патрульного…», нужно понимать как последние в текущей исторической ситуации попытки Айзенберга нащупать ранее не использованный модус говорения: громкий, лобовой, чреватый срывом. Это стихотворение — важное свидетельство. Характерно, что морок прежних лет теперь воспринимается как нечто давнопрошедшее, в воспоминаниях о нем можно теперь обнаружить легкость и даже счастье (о котором тогда, конечно, не думалось):
Как записки легли к изголовью
эти годы. Еще запиши,
что тогда занимались любовью
мы почти на лету, как стрижи.
Эти годы, никто не учил их
застывать на лету, на бегу.
А листками в бесцветных чернилах
я еще поделиться могу —
как ходили с пустыми руками
вызывать стеклотару на бой,
только б выжать из воздуха камень
и на нем утвердиться стопой.
Будущее, напротив, представляется довольно мрачным; переосмысленная детская считалка «Вышел месяц из тумана» звучит предсказанием:
Ножевой бросок небрежный,
нитка тонкая слюны
не такой уже потешной
дожидаются войны.
В темноте таится недруг,
непонятен и жесток,
он стоит ногами в недрах
и рогами на восток.
«Справки и танцы» вообще переходная книга: поэт перебирает в ней стилистические регистры, то возвращаясь к беспримесной ясности («По стене идет, змеясь, / нам, прохожим, непонятна, / рун игрушечная вязь, / проступающих как пятна»), то, как прежде, отталкиваясь от простого образа для создания метафизической картины («В небе облачная лестница…», «День заходит как заочник…»), то расшатывая сонетную форму (в стихотворении «Что новый автор? Кажется, молчит он…» 15 строк), то экспериментируя с графикой и «коротким дыханием»:
после десяти
по ночной тропе
белого белей
темные пути
камушки шуршат
сами по себе
Есть здесь и много стихотворных зарисовок и этюдов, делающих эмоциональный спектр книги насыщеннее: восьмистишие «Вот некто в трениках на велике…», небольшой цикл стихотворений о девушках и женщинах, стихотворение «В темном сводчатом приделе…», описывающее архитектурное украшение. Есть, наконец, итоговые «Два голоса», требующие внимательного прочтения. Метрически, интонационно и композиционно они связаны с «Диалогом» Бродского (и с его же «Холмами»), но заглавие и упомянутый ранее «социальный» контекст обязывают нас вспомнить и об одноименном стихотворении Тютчева.
Разумеется, два голоса у Тютчева — это два монолога, две вариации с радикально разными смыслами, написанные с той же парадоксальной позиции, что и его «Silentium!», автор которого предлагает молчать, но сам не молчит. Тот, кто говорит в тютчевских «Голосах» о блаженстве или зависти олимпийских богов, и сам находится над схваткой, будто бы на Олимпе: ничто не выдает его участия. Стихотворение Айзенберга — совершенно иной взгляд (взгляды) на поле битвы: разговаривают наблюдатели — но и участники. Они так же, как у Тютчева, свидетельствуют о безнадежности борьбы или вообще существования в заданных условиях: «Быть не хватает сил», «Всех коров извели. / Зверя сдали на вес», «Время-то на износ. / Времени-то в обрез». Решение дать слово рядовым участникам, не причисленным к олимпийцам, — это решение, оправданное всем историческим временем, прошедшим от Тютчева до Айзенберга. Но авторитетный императив появляется и здесь. Диалог обрывается (что подчеркнуто в тексте графически), после чего его составитель обращается к самому себе (таким образом, мы понимаем, что диалог был разыгран внутри одного сознания):
Выбери шаг держать,
голову не клонить,
жаловаться не сметь.
Выбери жизнь, не смерть.
Жизнь, и еще не вся.
Жаловаться нельзя.
Мне кажется, давно назрел разговор о новом стоицизме в русской поэзии: появилось достаточно поэтов, которых можно назвать стоиками. Но в финале «Двух голосов» мы слышим стоицизм классический. Его прямое выражение — казалось бы — не очень характерно для Айзенберга, но в этой переходной книге оно звучит так естественно. Ему находится здесь место, и очень важное, потому что Айзенбергу удалось создать книгу многообразную, но не эклектичную, приводящую в баланс множество элементов.
Так, между прочим, и воздух: кажется, ничего проще и естественнее на свете нет, но вспомните, сколько всего входит в его состав.
Михаил Айзенберг. Справки и танцы. — М.: Новое издательство, 2015.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Театр
Театр Общество
ОбществоКарабах — и далее везде. Кирилл Кобрин о постколониальном мире, который выскочил из разболтавшихся скреп холодной войны, чтобы доигрывать свои недоигранные войны
6 ноября 2020140 Современная музыка
Современная музыка20-летняя певица и автор песен из ЮВАО — о вхождении в шоу-бизнес, напускной толерантности, моде на ЛГБТ и других приметах своего поколения
5 ноября 2020571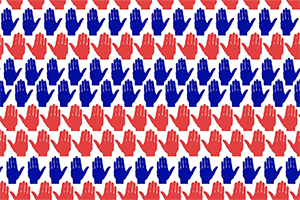 Colta Specials
Colta SpecialsМарина Давыдова о том, как глобальный раскол превратился из идеологического в эстетический
4 ноября 2020160 Кино
КиноВладимир Захаров о новом фильме Хон Сан Су «Женщина, которая убежала» и о кинематографической вселенной режиссера вообще
3 ноября 2020197 Общество
ОбществоПолина Аронсон и Жюдит Дюпортей о том, почему Алиса и Сири говорят с нами так, как они говорят, — и о том, чему хорошему и дурному может нас научить ИИ
3 ноября 2020524 Общество
ОбществоО том, как в политических целях алгоритмы разлучают людей, а корпорации лишают пользователей соцсетей всякой власти и что с этим делать, с учеными Лилией Земнуховой и Григорием Асмоловым поговорил Дмитрий Безуглов
3 ноября 2020302 Театр
Театр Кино
Кино Общество
ОбществоТомас Бьоркман, один из авторов книги «Скандинавский секрет», рассказывает, как Швеция пришла в ХХ веке к неожиданному успеху. В его основе была забытая идея народных университетов
2 ноября 2020412 Colta Specials
Colta Specials She is an expert
She is an expert