 В разлуке
В разлукеРазговор c оставшимся
Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202424713 Руттман. Кадр из фильма «Берлин. Симфония большого города» (1927)
Руттман. Кадр из фильма «Берлин. Симфония большого города» (1927)Недавно в издательстве «НЛО» вышла книга Ильи Кукулина «Машины зашумевшего времени. Как советский монтаж стал методом неофициальной культуры». COLTA.RU решила поговорить с автором и представить обширное научное издание с помощью нескольких случаев монтажа в XIX—XX веках.
Этот материал «склеен» из фрагментов книги, показывающих особенности монтажного сознания человека XX века, и диалога с автором книги, который указывает на крайне важное состояние «изменчивости», — и вопрос, позволяющий читателю сравнить свои ожидания с прочитанным материалом: «Я начал работу в одну эпоху, а заканчиваю в другую. 1 марта 2014 года завершился исторический период, начавшийся в 1987—1988 годах с перестройки в СССР и антикоммунистических восстаний в Восточной Европе. Того мира, к которому я, как мне казалось, привык, больше нет. В этой ситуации я задаю себе вопрос: кому и зачем могут быть интересны те историко-культурные сюжеты, о которых я говорю в своей книге?»
На страницах научной монографии перед нами разворачивают «новую карту» сознания XX века, и если содержание карты имеет отношение к прошлому, то ее формат и сообщения обращены к нашему настоящему. Эта карта склеена из множества вопросов, которые вызывают время и история у мыслящего человека. Кому-то книга напомнит «карту мародеров», позволяющую показать «невидимое», неявное знание. Кто-то сможет составить свою историю XX века. Прежде всего, «Машины зашумевшего времени» — задачник для человека, который хочет учиться и понимать, «что происходит» вокруг и внутри него — где он касается истории сердцем, а где режет ножом. Несмотря на научный облик и формат книги, количество ссылок и комментариев не заставит вас пользоваться словарем или Google.
Автор ведет себя как соисследователь и постоянно уточняет, о чем же он думает и говорит, поясняет не только читателю, но и самому себе, чтобы не оказаться в яме тотальной уверенности. На первый взгляд, почти всегда ответов в этой книге больше, чем вопросов, даже самые главные слова имеют «не одно» значение: «У слова “монтаж” как у эстетического термина, как хорошо известно, есть два смысла: узкий и широкий. В узком смысле монтаж — это метод организации повествования в кинематографе. В широком — совокупность художественных приемов в других видах искусств: произведение или каждый образ раздроблены на фрагменты, резко различающиеся по фактуре или масштабу изображения».
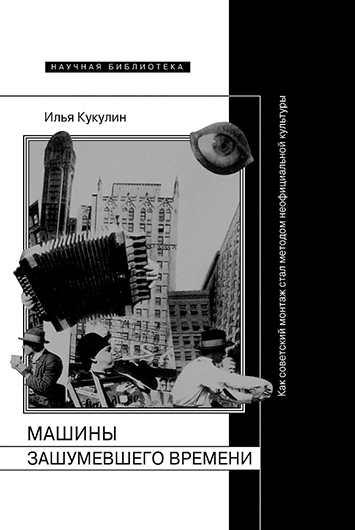 © Новое Литературное Обозрение
© Новое Литературное Обозрение— Часто академическое знание сегодня бывает представлено в такой форме или формате, что его сложно воспринимать человеку без бэкграунда. Что делать в этой ситуации читателю и писателю?
— Позвольте мне уточнить: вероятно, «без бэкграунда» — то есть не дикому, необразованному человеку, а просто не специалисту по обсуждаемой теме, но человеку, интересующемуся в той или иной форме интеллектуальными занятиями? Если я правильно вас понял, то вы задали очень сложный вопрос.
Кому нужно гуманитарное знание сегодня? Специалистам, которые им занимаются, — философам, историкам культуры, филологам, социологам, искусствоведам, антропологам — но, например, еще и специалистам в точных науках. Вероятно, и менеджерам, и пиарщикам, и юристам, и людям практических профессий… В общем, коллегам из смежных и дальних дисциплин. В самых разных ситуациях люди, занятые интеллектуальным трудом, могут почувствовать, пережить, что мир насыщен непредсказуемыми смысловыми связями и их можно проследить. Для этой работы данные гуманитарных наук нужны не в меньшей степени, чем естественных.
Как работать с этими связями применительно к конкретной интеллектуальной проблеме — можно объяснить более сложно или упрощенно, в зависимости от аудитории, но и то, и другое необходимо. Говоря резко, для меня нет сущностного различия между научной и научно-популярной литературой. Но для меня очень важно, чтобы язык и методы были современными. Даже то, что происходит на переднем крае науки, при желании можно объяснить заинтересованному неспециалисту, осведомленному по крайней мере на уровне школьной программы и располагающему багажом некоторой общей начитанности.
У нас в России в 1960—1970-е годы часто получалось так, что гуманитарии, следившие за интеллектуальной модой, читали более или менее одни и те же книги — условно говоря, от Бахтина до Аверинцева или до Лотмана, кому что больше нравилось. Сегодня гуманитарная наука ушла далеко от тех времен, но в культуре по-прежнему действует, как скрытый магнит, образ ушедшей интеллектуальной культуры, в том числе и методологический, и стилистический, примерно так: «хорошая книга — это как то, что писали и читали в 1970-е годы». Тогда была заложена нужная в советских условиях стилистическая традиция: нужно писать сложно, чтобы цензор ничего не понял. Кроме того, в советские 70-е ученые часто группировались в кружки, где вырабатывался свой язык, иногда (если эти люди не следили за наукой вне СССР) напоминавший схоластику — и в хорошем, и в плохом смысле слова. Бывает так, что люди и в наше время продолжают так писать, вкладывают в книги и статьи кучу усилий и глубоких мыслей — а получаются тексты, устаревшие и жанрово, и содержательно еще до того, как они созданы. Мне интересно, как можно по-русски писать иначе.
Мне кажется, теперь лучше обращаться к людям понимающим, но, возможно, находящимся и за пределами твоей профессиональной среды. Чтобы нам интеллектуально выжить, нужно строить междисциплинарную среду, в том числе и стилистическими средствами. Непонятно ведь, в какие руки попадет ваша работа. Было бы продуктивно, чтобы гуманитарии находили общий язык с другими областями знания, чему, как мне кажется, помогают и сайт «Арзамас», и COLTA.RU.
Я — преподаватель и стараюсь писать так, чтобы было интересно читать не только коллегам, но и студентам. Поэтому в моей книге разъясняются термины и реалии, которые для специалистов комментариев не требуют.
Первый компьютер у меня появился в 1997 году, и на нем была сразу установлена программа «Слово и дело», российский аналог «Лексикона», эта программа почти нигде не употреблялась, коллеги в основном уже перешли на Word. Мне нужно было везде носить с собой установочную дискету со «Словом и делом» и записывать ее на все компьютеры, где я хотел работать со своей информацией. По сути, мне приходилось постоянно переводить со своего языка. Можно сказать, что подобная коллизия сохраняет силу и сегодня: нужно всякий раз все начинать с объяснения рамки и концептуальной основы. Отчасти это связано с тем, что я пишу о вопросах, в российской культурной памяти не запомненных, не сохраняющихся, как, например, проблематика неподцензурной литературы. Это и неудобство, и в то же время довольно плодотворное обстоятельство, оно все время стимулирует продумывать основания моей мысли.
Сейчас и научно-популярная литература, и научно-популярные лекции очень востребованы, но трудно понять, что будет с изданием соответствующей литературы теперь, после приостановки деятельности фонда «Династия». Наверное, найдутся какие-то обходные пути, менее удобные, но придется ходить по ним.
 Торжество монтажной эстетики — фильм Ф. Ланга по сценарию Теа фон Харбоу «Метрополис» (1927). Кадр из фильма
Торжество монтажной эстетики — фильм Ф. Ланга по сценарию Теа фон Харбоу «Метрополис» (1927). Кадр из фильмаОт определения монтажа внимание читателя обращают к тому, с чем монтаж работает: время — история — представление о реальности: «Вне зависимости от того, в каких видах искусств используется монтаж — во “временных” или в “пространственных”, — он всякий раз осложняет и нарушает “реалистические” принципы изображения времени в произведении. Монтажный образ демонстрирует время как совокупность одновременно происходящих движений… монтаж в кино или литературе может и столкнуть, поставить рядом действия, разделенные длительным промежутком времени».
Контекстом «монтажа» и «монтажного» сознания становится нарастающее осознание катастрофы целостности мира и человеческого сознания: одно из начал этого сознания — Новое время и неработающие проекты «Просвещения» и рациональности как мотор машины человечества. Фактором изменения восприятия реальности становится открытие сравнительно новой территории «подсознания», психического мира человека и раздельной жизни двух полушарий: «В конце XIX века философы, исследующие проблемы сознания (такие, как Уильям Джеймс и Анри Бергсон), и наиболее радикальные психологи (такие, как Зигмунд Фрейд) приходят к выводу о том, что не только человеческое восприятие, но и сознание не являются цельными, состоят из отдельных вспышек-осознаний, на которые оказывают огромное влияние эмоции и бессознательные импульсы, отчужденные от “дневной” человеческой субъективности».
На географическом и геополитическом уровне европеец сталкивается с цивилизациями Востока и Азии и понимает, что он не один под этим солнцем и карты придется переписывать не раз. Все это происходит на фоне открытий микромира, появления кино, новой музыки, импрессионистов и постимпрессионистов.
В истории литературы (а примеры в книге большей частью относятся к этому искусству) монтажная техника становится способом представления субъекта в поэме Стефана Малларме «Бросок игральных костей никогда не отменит случая» («Un coup de dés jamais n'abolira le hasard», 1897), ставшей важным событием в истории новой европейской литературы (в предисловии Малларме поясняет, «как читать его поэму», это объяснение можно найти в книге Ильи Кукулина. — С.С.). Единицей чтения «Броска костей» была не страница, а страничный разворот, что еще ближе к идее монтажа, потому что каждая страница в этом случае выступает как отдельный кадр, а разворот — как монтажный стык.
— Если когда-то мир вокруг и казался цельным, то сейчас это вряд ли достижимо, и описание монтажа в вашей книге толкает читателя к ощущению современности как неопределенности.
— Мне кажется, что любая цельность — это фантазм. Если цельность сознания вам нужна, то она может быть только создана заново, выработана как искусственная позиция, пользуясь терминологией А.М. Пятигорского. Я стараюсь обращаться к разным типам искусства — литературе, театру, кино, — к творчеству авторов разных стран и разных культурных ориентаций, чтобы преодолеть раздробленность культуры. А современность, конечно, всегда неопределенная: ведь непонятно, какая из открывающихся сегодня возможностей будет реализована, какая будет забыта, а какая сохранится как потенциал развития на будущее. Монтажные принципы в искусстве показывают, как синхронно сосуществующие пучки возможностей, из которых складывается сиюминутное самоощущение человека, можно удержать в голове и воспринять неопределенность эстетически, как имеющую форму и направление — точнее, множество направлений.
Другое дело, что такое эстетическое претворение современности, по-видимому, возможно далеко не только с помощью монтажных приемов и методов. После завершения работы моя книга, честно говоря, немного смущает меня односторонностью. С одной стороны, можно действовать так, как герои этой книги, но можно и противостоять «кусочности» мира, как это происходит в картинах Марка Ротко — цельных по цвету, похожих на объекты для бесконечной медитации, для выпадения из времени. Есть множество промежуточных вариантов представления реальности в диапазоне между вымечтанной, стилизованной «цельностью» (которая может быть вполне интересна!) и «кусочностью».
Пока я не придумал, как в одной оптике совместить анализ этих разных стратегий. Их трудно сравнивать, но видно, что в зависимости от исторической и культурной ситуации и от конкретного автора лучше работают то одни, то другие подходы. Откровенный монтаж иногда выглядит слишком нарочитым. Михаил Еремин в своей поэзии показывает сосуществование разных уровней реальности, Мандельштам в «Восьмистишиях» — мир как совокупность еще нереализованных возможностей, но ни у того, ни у другого поэта методы не похожи на монтаж, каким я его описал.
Случайность и фрагментированность реальности стали частью сознания человека, когда он превратился в горожанина и начал осознавать себя среди больших зданий, дорог, движения, скорости и новых для того времени медиа — газет. На газетном листе житель города узнавал о жизни людей, которых он может никогда не увидеть. Но его интересовала их судьба, он соотносил свои взгляды и то, что написано на листе газеты, который превратился в основной источник информации о мире, населенном воображаемыми сообществами (Бенедикт Андерсон). На восприятие влияло не только сообщение, но и то, как оно расположено, его графический облик, шрифт, наличие фотографии, расположение на первой странице или в углу — то, что потом станет интересно Ролану Барту и другим критикам массовой культуры. Главное для понимания монтажной природы газеты — конфликт новостей, расположенных на одной странице, конфликт кусков материала в рамках одного произведения станет одним из основных принципов монтажа.
Урбанизация и встраивание человека в ритм городского пространства происходили на уровне всех ощущений — человек слышал шум завода, звон падающей на прилавок монеты, видел вывески и рекламные плакаты, обращенные ко всем, но одновременно и к нему — одинокому жителю многотысячного города. Раннее утро в Петербурге описал еще А.С. Пушкин: «Встает купец, идет разносчик, / На биржу тянется извозчик, / С кувшином охтенка спешит...», но более известный пример обращения поэта к уже фрагментированному/разбитому пространству мы встречаем в тексте известного «фланера» Шарля Бодлера:
Казармы сонные разбужены горнистом.
Под ветром фонари дрожат в рассвете мглистом.
Вот беспокойный час, когда подростки спят,
И сон струит в их кровь болезнетворный яд,
И в мутных сумерках мерцает лампа смутно,
Как воспаленный глаз, мигая поминутно,
И телом скованный, придавленный к земле,
Изнемогает дух, как этот свет во мгле.
Мир, как лицо в слезах, что сушит ветр весенний,
Овеян трепетом бегущих в ночь видений.
Поэт устал писать, и женщина — любить.
Вон поднялся дымок и вытянулся в нить.
Бледны, как труп, храпят продажной страсти жрицы — Тяжелый сон налег на синие ресницы.
А нищета, дрожа, прикрыв нагую грудь,
Встает и силится скупой очаг раздуть,
И, черных дней страшась, почуяв холод в теле,
Родильница кричит и корчится в постели.
Вдруг зарыдал петух и смолкнул в тот же миг...
(«Предрассветные сумерки», перевод В. Левика)
— Когда я читал вашу книгу, у меня возникало безумное ощущение — я попадаю в мир очень большого знания, сложно устроенного и ассоциативного: ты думаешь, что в ХХ веке 100—200 важных имен, а читаешь в ссылках и комментариях тысячи, а на самом-то деле их еще больше, и ты понимаешь, что есть еще степени погружения, где можно утонуть, — появляется интерес и ужас.
— Когда я писал, мне все время не хватало понимания контекста. Я видел переклички между разными явлениями, которые нужно было простроить, а для этого еще и еще раз менять структуру книги. Я до сих пор жалею о тех произведениях, о которых не написал в своей книге — а надо было бы, потому что там новаторским образом использованы монтажные приемы: роман Алексея Ремизова «Взвихренная Русь», стихи Михаила Соковнина, ряд фильмов 1960-х годов и более позднего времени… У меня самого было ощущение, что я тону в этом материале. Да оно и всегда меня сопровождает, когда я пытаюсь писать о культуре ХХ века. Постоянное чувство, что есть важные процессы, которые ты упускаешь из-за незнания имен.
Если у кого-то из читателей или читательниц моей книги тоже возникнет такое чувство, я советовал бы ему или ей воспринимать мою работу как психологический тренажер. Мне кажется, что для человека, изучающего современную культуру, это нормально — чувствовать, что вокруг происходит невероятное количество интересных, потенциально значимых событий, но ты не успеваешь всего заметить. Нужно просто стараться вступить с диалог со всеми, с кем получится. Я хотел бы надеяться, что моя книга может показать, как сделать это ощущение разбегающейся реальности не пугающим, а конструктивным, по известному афоризму из книги Ф. Ницше «Сумерки идолов»: «Что не убивает меня, делает меня сильнее».
Вместе с ростом городов распространялся и сравнительно новый вид массового искусства — кинематограф. Сначала монтаж был вспомогательным средством для технического создания фильма, но, например, в фильме Д.У. Гриффита «Нетерпимость» (1916) «он становится методом, выражающим новый взгляд на историю и общество». В фильме Гриффита используется монтаж для сопоставления разных периодов в истории развития человечества: Древний Вавилон, Иудея евангельских времен, Франция в год Варфоломеевской ночи и США начала XX века:
«После “вавилонской” сцены идут “иудейская”, “французская” и “современная”, потом новый “вавилонский” эпизод и т.д. — но в дальнейшем эпизоды чередуются непредсказуемо, завершается же фильм картиной конца света: к сражающимся солдатам (в которых угадываются войска, участвующие в Первой мировой войне) с неба спускаются ангелы, которые прекращают битву, а бунт заключенных в тюрьме высшие силы прекращают, уничтожая стены тюрьмы и превращая в цветущий луг место, где она стояла. Фильм имел подзаголовок “Drama of the Comparisons” — “Драма сравнений”.
В “Нетерпимости” зрителю предлагают мир, который уже не может быть целым и одним, в новом мире человеку придется переключаться из одной реальности в другую, медленно понимая, что свое “настоящее” придется собирать всю жизнь. С. Эйзенштейн в программной статье “Диккенс, Гриффит и мы” (1942) доказывает, что советским кинематографистам совершенно необходимо взять у Гриффита технику монтажа и крупных планов, но призывает ни в коем случае не ориентироваться на сюжет “Нетерпимости”, так как — очень важный аргумент — представленные в фильме эпохи не имеют ничего общего между собой, а смысл истории американский режиссер понимает гораздо хуже, чем Карл Маркс».
— Как живет книга, когда она вышла?
— Возможности ее прочтения и понимания очень сильно зависят от конкретной книги и от множества других обстоятельств. Мне интересно, как происходит рецепция сложной литературы, этот интерес отчасти подталкивает меня к тому, чтобы заниматься литературной критикой. Мне важно понять, как можно вступить в диалог с конкретным произведением.
Но вы, наверное, имеете в виду мою книгу? Пока что я не понимаю, кого и почему она могла бы заинтересовать. Отчасти просто потому, что прошло мало времени. По моим представлениям, цикл восприятия новой научной книги длится примерно три года: в течение именно этого времени выходит основная часть рецензий в академических журналах. Люди долго думают, долго пишут, у академических журналов длинный цикл. А моя вышла совсем недавно. Пока я видел рецензии Игоря Гулина и Ксении Букши — их мне прочитать было интересно и полезно.
Человек, осознающий все, что происходит в начале XX века, открывает для себя историю как травматический опыт, меняющий не только карту вокруг тебя, но и свойства твоих внутренностей. Центральное событие истории России — революция «привела не к изменению сознания, а к рождению нового государства». Явным носителем «травмированного опыта» был Мандельштам, в начале 1920-х осознавший крах романтических и утопических проектов: об этом можно прочитать в «Четвертой прозе», которая станет одной из точек отсчета позиции неподцензурной литературы. Тексты Мандельштама — свидетельство о насилии как процессе, происходящем с историей, языком, человеческим телом и духом.
Но единая точка зрения на мир уже невозможна, и наравне с текстами Мандельштама существует «изображение истории как непрерывного становления, внешне лишенного насилия; оно использовалось в 1920-х — начале 1930-х прежде всего в оптимистических пропагандистских плакатах, рассчитанных как на советскую, так и на иностранную аудиторию».
 Эль Лисицкий. Обложка буклета Советского павильона на Всемирной гигиенической выставке (Дрезден, 1930)
Эль Лисицкий. Обложка буклета Советского павильона на Всемирной гигиенической выставке (Дрезден, 1930)— Меня волнует — как человека, который недавно получил высшее образование и что-то пишет, думает, комментирует, — понимание того, что сейчас всем интересна западная критическая теория от Адорно и Беньямина до Лакана и Фуко. Всем людям, занимающимся культурой, интересно, как устроен мир: и поэты, и художники, и музыканты — все разбирают и собирают: например, социальная поэзия, работающая с разными слоями травматического опыта. С какими проблемами сегодня может столкнуться человек с монтажным мышлением?
— Ну, так-таки и всем интересна! Не согласен с вами. Одни на дух не переносят «весь этот ваш постмодернизм», другие, напротив, считают, что Лакан и Фуко давно устарели… Но если все же считать, что «Машины зашумевшего времени» что-то фиксируют в современной ситуации, то я воспринимаю свою книгу прежде всего как указание на то, что монтаж имеет общекультурное значение. Это пока только постановка проблемы, хотя я и пытаюсь вернуться на новом уровне к тем вопросам, которые ставили в своих работах 1980-х годов Вячеслав Всеволодович Иванов, Борис Раушенбах и Владимир Библер. Но для сегодняшней ситуации это только начало разговора, и я уверен, что возможно высказать много других мнений о роли монтажа в культуре ХХ—XXI веков.
Мне кажется, особенность гуманитариев моего поколения, кажется, отчасти характерная и для следующего за нами, — это такое восприятие… не только рациональное понимание, но еще и эмоциональное переживание: не бывает только эстетических или только метафизических вопросов. На проблемы, которые выглядят эстетическими или метафизическими, всегда бросают отсвет история или социальные коллизии. В неофициальной науке советского времени такая политическая рефлексия тоже присутствовала, но все же в 1970-е годы знание о том, что мир вокруг имеет фрактальную природу, могло принести чистую радость человеку, прочитавшему Бенуа Мандельброта или пересказ его идей в журнале «Химия и жизнь». Сегодня знание о фрактальности может ассоциироваться с социально-историческими реалиями и само подвергается рефлексии: а почему мне интересно здесь и сейчас говорить о фракталах?
Мне кажется, есть две трудные проблемы, которые предстоит решать критически настроенным гуманитариям в нынешней России. Не знаю, как определить этот круг точнее.
Первая — возможность диалога с некритически настроенными людьми, которые «ведутся» на телевизионную пропаганду. Или если даже не говорить — как себя с ними соотносить. Не соглашаться, не уступать, но и не считать себя непогрешимыми, лучше других, не впадать в личное или коллективное самодовольство, не считать, что за критический настрой мне или кому-то еще полагаются какие бы то ни было моральные бонусы. Иначе говоря, нужно признать недействительными и неадекватными все типы отношения к «внешнему» обществу, выработанные русской интеллигенцией. Не вести кого бы то ни было за собой, не уходить во внутреннюю эмиграцию в том смысле, как это понималось в 1970-е годы, не «учиться у народа» (никакой единой целостности под названием «народ» не существует) — все это нерелевантные позиции. Ощутить себя частью разнородного общества, очень конфликтного, движущегося в непредсказуемом направлении. Даже уехав из России, ты соотносишь себя с этим гетерогенным целым, хотя бы и не соглашаясь с ним. Вероятно, если научиться жить и думать в этих новых социальных координатах, в ходе их осознания могут родиться какие-то новые направления в искусстве.
Вторая проблема — утопическое стремление к всеобъясняющей «большой теории», которая сегодня очень желанна многим, но, мне кажется, этически и эстетически невозможна. Может быть, в ближайшие годы будут появляться значительные теоретические высказывания, но я имею в виду другое: соблазн концепции, которая все объяснит, даст простые решения. Например, такое: сейчас происходит столкновение цивилизаций, поэтому на Ближнем Востоке возникло и укрепилось Исламское государство. Объяснять все такими простыми схемами соблазнительно, но это приводит к стагнации мысли и к неадекватности действий. Мы же существуем в ситуации кризиса гуманитарного знания, университетской системы, нарастающего влияния медийных мифов… Нужна не «большая теория», а концепции и языки, которые смогут создать пространство интеллектуального взаимодействия в этой кризисной ситуации. Разговора между старшим поколением коллег и студентами, между учеными разных направлений… Я, наверное, ломлюсь в открытую дверь?
Знание о советском времени фрагментировано в большей степени, чем XX век. Что знает бывший школьник об истории той страны, в которой он никогда не жил, но постоянно сталкивается с ее последствиями? История литературы в моей провинциальной школе заканчивалась Пастернаком, и тем, кто смог «дочитать», выдавали «Пушкинский дом» Битова, но не обсуждали. Например, не обсуждали, что времени в общем понимании, времени исторического, в СССР, а особенно в долгие 1970-е, не было: «и власти, и медиа представляли настоящее как вневременной “развитой социализм”, прошлое которого было мифологизированным, а будущее — отложенным на неопределенную перспективу. Этот период продлился до перестройки».
Борьба с «безвременьем» велась прежде всего на неподцензурном фронте, каждый лишенный ощущения «исторического» возвращал себе настоящее через встречи «фрагментов истории и дискурсивных практик, разъединенных и взаимно отчужденных в личной памяти людей под влиянием исторических травм ХХ века».
Хотя весь двадцатый век «искусство сопротивлялось идеологии», именно в 1970-е неподцензурные авторы находили языки для переосмысления лозунга американской феминистки Кэрол Хэниш «Personal is political» (1969) в позицию «now only personal is historical».
Если время не меняется, где хранить память о своем личном опыте жизни и наблюдения за историей страны и людей? Одним из таких искореженных хранилищ становятся кинематограф Тарковского и анимация Норштейна: «проекции в личной памяти, травматически разорванной под влиянием катастроф, постигших общество. Важнейшие примеры такого “монтажа памяти” — фильм Андрея Тарковского “Зеркало” (1974) и анимационный фильм Юрия Норштейна “Сказка сказок” (1979). В первом случае сам фильм является особого рода театром памяти героя, биографически близкого режиссеру, во втором — метафорическим изображением разных режимов восприятия времени в памяти людей совершенно определенного поколения — тех, кто был ребенком, когда началась Вторая мировая война, и достиг профессиональной и социальной зрелости в 1970-е. “Сказка сказок” представляет на экране опыт того же поколения, к которому принадлежали и Тарковский, и герой его фильма».
Насколько доступны и понятны были эти формы кинорефлексии советскому человеку? Скорее всего, по телевизору показывали «Семнадцать мгновений весны», в котором внимание зрителя концентрировалось на судьбах людей в преддверии капитуляции Германии. В фильмах Тарковского можно было увидеть совсем иные события, почти явное ощущение исторического ужаса. «Мать главного героя, корректор в типографии, в одном из эпизодов впадает в панику от страха, что могла пропустить опечатку в газете (этот эпизод имеет четкую биографическую привязку: мать Тарковского, Мария Вишнякова, во время войны работала корректором в газете)». Тот, кто в состоянии расшифровать аббревиатуру НКВД, знает, чем могли грозить опечатки. Одним из главных страхов в советском обществе был страх несоответствия норме, страх отличия, в котором может уличить любой. Илья Кукулин находит очень важную мысль: «в советском обществе только идея умирания парадоксальным образом выбрасывала героя» из вневременной воронки и обращала его лицом к истории — когда человек начинает отличать настоящее от прошлого: так происходит в фильме «Сталкер» (1979) или в повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».
Одним из опустошенных свойств советского человека была речь. Большинству был недоступен контакт с капиталистической речью Запада, только в ее «обруганной форме», а меньшинство не могло пользоваться речью, подпольно приобретенной из книг и по радио, открыто. В этой ситуации возникали невероятные внутренние миры, ютившиеся на квартирах и в головах людей, дороживших страницей текста больше, чем своей рукой. Уже в 1950-е с оглядкой на Джойса появились тексты Павла Улитина: «В его произведениях цитаты присваиваются и переосмысливаются, а собственная речь рассказчика отчуждается уже в момент возникновения и поэтому существует в тексте на тех же правах, что и цитаты из других авторов».
— Мне кажется, что сегодня молодые интеллектуалы все еще верят в пути интеллектуалов Запада, в их классические образцы: Сьюзен Зонтаг, Умберто Эко, Ролан Барт… Их способы высказывания и оптика работали там и тогда. Как Фуко переносится на русскую почву, что возможно для российского интеллектуала здесь и сейчас, что может работать?
— В 2001 году журнал «Новое литературное обозрение» проводил опрос о рецепции идей Фуко в России и их полезности для изучения российских реалий. Григорий Дашевский ответил: «Самой актуальной для России стороной наследия Фуко я считаю его участие в “Группе информации о тюрьмах”». Для меня очень важны книги Фуко, но я хотел бы напомнить об этой мысли Дашевского — из-за того, что одна тяжелая проблема российской гуманитарной мысли 1990-х все еще не отрефлексирована.
Несмотря на все нынешние политические безобразия, Россия по своей культуре — страна европейская. Но при наших «догоняющих модернизациях» постоянно происходит одна и та же история, о которой не раз писали Борис Дубин и Лев Гудков. На русский язык переводятся формулы гуманитарной мысли, выработанные в другой стране и для других обстоятельств, и эти формулы считаются достаточной всеобъясняющей теорией. Тот же Фуко. Достаточно чуть-чуть пойти дальше, и мы увидим, что наша ситуация действительно соотносима с ситуацией Фуко 1970-х годов, но нужно придумать интерпретативную модель такого соотнесения. Тогда Фуко, или Деррида, или Рансьер, или кто угодно — их мысль начинает работать в российском контексте. Но тогда ее нужно будет проблематизировать, как и основания моей собственной мысли. Я сейчас не говорю ничего нового, просто напоминаю, что уже сказано другими.
Проект новой «сборки» субъекта, о котором думал Фуко, теряет бóльшую часть смысла, если не принимать во внимание: эта «сборка» есть социальное действие, она требует не только умственных усилий, но и борьбы за переопределение социальных норм, за то, чтобы представлять, что общество делает с отверженными — с теми, кто объявлен душевнобольным или преступником. У нас столько людей сидит потому, что на них «повесили» чужое преступление, или потому, что они, например, булочками с макомторговали! Для современной России вопрос о соотношении дисциплинарных практик и представлений о субъекте, которые историзировал Фуко, — это тоже вопрос одновременно политический и интеллектуальный.
Мне кажется, одна из самых важных на сегодня вещей — удержать мысль о том, что производство гуманитарного знания способно обеспечить для российского общества повестку послезавтрашнего дня. Это помогает удержаться от впадения в состояние невротического пассеизма: «давайте спасать то, что можно спасти». Как распространять эту повестку — вопрос важный, но логически следующий.
От нас требуется — ситуацией — совместить два уровня рефлексии. Первый — ответы на вопросы, которые не были даны в 1990-е. Один вопрос, например, такой: если советская власть была преступной (на мой взгляд, была), и если неверна патерналистская установка ожидания всех благ от начальства и государства, и если военно-промышленный комплекс советского времени работал на эту власть, а экономика больше чем наполовину была милитаризована, — то зачем жили те поколения, которые социализировались и умерли в советскую эпоху? Ответ на этот вопрос может начаться с разных сторон — например, с недооцененной работы В.О. Ключевского «Добрые люди Древней Руси» и с продолжающей ее проблематику работы Юрия Айхенвальда «Дон Кихот на русской почве». Люди создавали смысл вопреки советской жизни там, где проявляли не предписанную системой готовность к эмпатии и взаимопониманию. Второй уровень — современный. Вопросы, не получившие ответа и забытые, нужно попробовать соотнести с сегодняшними проблемами. Без этой исторической ревизии в осмыслении социальной ситуации и состояния умов в России будут серьезные лакуны.
Одним из наиболее плодотворных лагерей сопротивления идеологии «советского» образа жизни и мышления был лагерь концептуалистов, которые исследовали язык официальной культуры как врага, чье лицо надо не только знать, но и уметь с этим лицом говорить, используя его язык для его публичного крушения:
«Кабаков исследовал и демонстрировал стиль мутировавших визуальных языков. В их далеком прошлом угадывались плакаты А. Родченко и “типографика” Эля Лисицкого, но картины Кабакова соотносились с ними только формально — и через ряд опосредований, которые подробно описал сам художник:
...я сразу стал понимать свои картины, как только я стал их изготавливать, что они — определенный уже готовый идео- или изоязык (неважно — изображение перед нами или слово). Эти языки — “классический”, “московский”, “передвижнический”, “западный современный” — в этом смысле все равны между собой (все одинаково они есть, и все уже чужие), но между ними — как вообще в нашей стране — есть метаязык... “первый среди равных”: язык анонимной расхожей продукции, язык все интегрирующий, усредняющий <...> и, может быть, являющийся языком “всесмешения”. <…> Это язык стендов, плакатов, пояснений и др.».
 Илья Кабаков. Туалет. Инсталляция впервые построена на выставке Documenta X в Касселе, 1992.© JM group
Илья Кабаков. Туалет. Инсталляция впервые построена на выставке Documenta X в Касселе, 1992.© JM group Определяющим принципом борьбы неподцензурной литературы с советским мировосприятием становится «не-единственность смысла»: крайне важно было показывать тем, кто еще мог видеть, что сложность реальности — это нормально и наличие нескольких разных ответов на волнующие вопросы — это показатель хоть и неопределенности, но свободы сознания. Пример визуального построения множественности смыслов мы видим у Вс. Некрасова:
«Сам поэт связывал образ двух “русел” стихотворения с взаимодействием двух полушарий головного мозга — очевидно, под влиянием известной книги Вяч.Вс. Иванова об асимметрии полушарий и знаковых систем. Некрасов использовал этот прием и для демонстрации множественности переживаний от события, и для того, чтобы продемонстрировать столкновение разных дискурсов осмысления действительности — например, религиозного и политического.
|
Это Как это бывает Спроси Это да |
А это знает один Как это было Спроси Костю Богатырева И это тайна да |
Индивидуальность порождаемых таким текстом смыслов Илья Кукулин связывает с практикой Льва Рубинштейна, знаменитые карточки которого позволяют «достроить» ситуацию и типажи участников диалога по одной только фразе вроде: «Кто не храпит? Ты не храпишь?», «Так и сказал: “Из КГБ?”»
— Следующий вопрос касается слов, будоражащих сознание интеллектуалов, тех маркеров, которые мы помещаем в текст и речь — и наше сообщение как бы становится актуальнее, горячее, вызывает больший отклик и словно приобретает «новое» значение: например: власть, государство, Беньямин, современность. И вот тут мне важно понять, что делать, когда надо признать: мы имеем дело не со словами, а с образами слов, которые кажутся необходимыми многим людям и без них невозможно обойтись, — мы говорим о чашке и употребляем слово «современность», но о чем мы говорим?
— Ваш вопрос задан из позиции, предполагающей, что все эти явления и слова легко забалтываются, поэтому хорошо бы разобраться, значат ли они еще что-нибудь. Мне кажется, можно попробовать разобраться, что эти слова значат в нашей ситуации, почему размышления о политических аспектах интеллектуальных проблем кажутся необходимыми многим гуманитариям. Почему сегодня так часто ссылаются на Беньямина, если вычесть фактор моды и превращение ссылки на этого философа в знак «хорошего тона»? Потому что в 1920—1930-е годы он открыл особенности функционирования культуры, сохраняющие значение и в сегодняшней ситуации. Об этих его открытиях много написано, но позволю себе напомнить. Например, в «Тезисах о понятии истории» он сказал, что история пишется с точки зрения победителей, а точка зрения проигравших «вытесняется». В своей докторской диссертации «Происхождение немецкой барочной драмы» Беньямин писал: то, что мы воспринимаем как нарушение традиционного мимесиса, разорванность, конфликтность текста, может быть результатом исторической травмы, например Тридцатилетней войны. Беньямин стал первым, кто отрефлексировал ощущение раздробленности мира, стоящее за развитием монтажной эстетики. Кроме идей Беньямина для сегодняшнего дня важна еще его позиция на границе академического мира. В этом он перекликается с Лидией Гинзбург, другой важной для сегодняшнего дня фигурой. Их позиция была необходима для критики не только «больших» тоталитарных дискурсов, но и самообмана их современников-интеллектуалов. Мы, стоя на их плечах, можем продолжать критику идеологического самообмана. Я не во всем согласен с Беньямином, но о своих несогласиях я уже говорил в дискуссии с Артемием Магуном и Александром Скиданом, запись которой опубликована в вып. 5 журнала «Синий диван» в 2005 году. В нашем разговоре важно проговорить, почему позиция Беньямина по-прежнему выглядит продуктивной. «Выглядит» не значит обязательно «является», тут нужно продолжать его мысль, спорить с ним, а то получится опять готовая формула.
Всякий раз, когда мы употребляем одно из ключевых слов, упомянутых вами или нет, стоит подумать, какой смысл мы в него вкладываем, а заодно задаться вопросом из анекдота: «Мама, ты с кем сейчас разговариваешь?» Мы можем даже и не прийти к точному ответу, но присутствие этих вопросов в нашем сознании заставляет нас думать по-другому.
К счастью, теперь и те, кто не читает по-немецки, могут прочитать словарь по истории основных понятий политического языка под редакцией Райнхарта Козеллека — по-русски в переводе Кирилла Левинсона вышло только два тома избранных статей вместо восьми томов немецкого оригинала, но и это уже очень хорошо. Так вот, там есть статья Ханса Ульриха Гумбрехта «Современный, современность», где он выделяет три логически возможных значения слова modern, то есть «современный». Первое — «нынешний», антоним «прежнему, прошлому». Второе — «новый», антоним «старому». Третье — «временное, преходящее», антоним «вечному». Наше сегодняшнее чувство современности, как мне кажется, включает в себя еще и переживание неопределенности: современность — это новое, с которым непонятно что делать. Борис Дубин — не он один, но в России он писал об этом, кажется, чаще других авторов — интерпретировал современность как этическое задание. Современность — это то, что мы должны понять как иное, отличающееся от привычного. Меня смущал интернет-мем, который ходил года два назад: «Здесь ничего уже не исправить, Господь, жги!» Иногда его употребляли очень симпатичные люди в совершенно отчаянных ситуациях, но широкое распространение и использование этого мема в качестве шутки скрывает одну невеселую тенденцию: современность в современной России можно воспринять как самодеятельный апокалипсис, после которого уже ничего не будет — или неважно, что будет, потому что будет уже все другое. Мне кажется, что современность не апокалиптична, но кризисна. Слово «современность» позволяет дать имя тому, что для нас непонятно, но это не содержательное имя, а временное обозначение. Надо понимать, что если мы определим нынешний этап в истории культуры и общества, мы своим пониманием замкнем его в прошлом. Если после этого история не завершится, то нужно будет пробовать искать новое имя для того, что мы для простоты называем современностью.
Если советское время закончилось, то советское сознание отступает медленно, а осознание опыта, который многие и не проживали, идет совсем сложно. Языков становится все больше. Монтаж не исчез, а перешел на микроуровень. Фрагментарность — не только рамка восприятия, но и основа живучести события и образа, претендующего на ту «ауру», которую терял и вновь изобретал XX век. Наследство невозможно охватить взглядом или словом «раздробленность», что придает ему удивительную живучесть: в столкновениях жестов и голосов образуются новые смыслы — не те, с которыми «перспективно работать», но те, которые можно разделить с другими. В стихах современных авторов отношение каждого из фрагментов к другим частям стихотворения и к внешнему миру парадоксально сочетает в себе амнезию и гипертрофированную памятливость (у предшественников памятливость, пожалуй, была намного важнее):
относительно музея чуть
раньше расположена во
времени музыка
чуть раньше нее
расположено во времени
безумие,
а чуть раньше безумия
расположена во времени
смерть
но это смотря с какой
стороны идти
(П. Андрукович, «относительно музея...»)
Книга Ильи Кукулина проведет читателя по тысячам имен и дат, покажет судьбы людей, которые посмертно изменили наше время, главное — в этой плотной монографии всегда найдется «что обсудить» и с чем не согласиться: как, например, вам такое мнение о поэзии сегодня?
«Стихи, с их дискретной по определению структурой (стиховая речь, как правило, поделена на соизмеримые отрезки), становятся одной из самых эффективных форм интеграции разных типов опыта — опровергая предположения о том, что поэзия — слишком “старомодный”, “романтический” и “монологический” тип искусства для нынешней эпохи».
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202424713 В разлуке
В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым
22 ноября 202423182 В разлуке
В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах
14 октября 202426138 В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается
20 августа 202432123 В разлуке
В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»
9 августа 202432686 В разлуке
В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь
15 июля 202435296 В разлуке
В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым
6 июля 202436023 В разлуке
В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности
18 июня 202441584 В разлуке
В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова
7 июня 202441268 В разлуке
В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»
21 мая 202437017 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials