Василе Ерну: «Мы учились, посылали кого-то в космос, вернулись и теперь будем строить с вами капитализм»
Михаил Котомин поговорил с румынским писателем, автором книги «Рожденный в СССР», о том, что еще осталось от советского проекта

В ноябре этого года Москву и Красноярск посетил с лекциями Василе Ерну, румынский писатель и критик, автор книги «Рожденный в СССР» (Ad Marginem, 2007 г.). Лекции были организованы Международным Мемориалом и представительством ЕС в России в рамках цикла «Поверх барьеров — Европа без границ».
Василе Ерну родился в СССР в 1971 году, уехал в Румынию в 1990-м, там окончил факультет философии Ясского университета им. Ал.И. Кузы и стал магистром философии в Университете Бабеш-Бойяи в городе Клуж-Напока. На сегодняшний момент он — автор семи книг, сооснователь кооператива Londohome&Londophone — бара, клуба и дискуссионной площадки в Бухаресте. По просьбе COLTA.RU с Ерну поговорил его русский издатель Михаил Котомин (Ad Marginem).
— Сколько ты не был в Москве?
— Семь с чем-то лет, почти восемь. Я прилетел в пять часов утра в субботу, проехал весь центр города и по дороге думал: что-то с Москвой не то. Уже в гостинице понял, что в центре нет больше рекламы. Ты вдруг видишь дома… Раньше по дороге не было горизонта, а сейчас пространство очень хорошо видно. Москве это, кстати, к лицу. Красивый город.
— Тебя не посещали на прогулках воспоминания не о постсоветской, завешанной рекламой, а еще о советской Москве? Ты же был тут ребенком.
— Ну, конечно, метро, одна из самых сильных советских построек. Не только само по себе, но и иконография метро. В Румынии мало что сохранилось из сталинского периода, а Москва очень сталинская.
— Или все-таки Москва для тебя — такой современный, абстрактный, явно западный, отчетливо консюмеристский город?
— На мой взгляд, раньше агрессивный либеральный стиль был виден в Москве сильнее. В 2000-е бросалось в глаза, что здесь много денег. Тогда был такой «сталинистско-капиталистический» стиль. Сейчас деньги куда-то ушли, их не так хорошо видно, город стал более мягким. Не знаю, это из-за кризиса или местные капиталисты поняли, что деньги не стоит держать на виду, а надо немного спрятать в норы… такие неолиберальные трюки…
— По-моему, новая бедность — это глобальный процесс. Элиты поджались везде.
— Хотя я читал вчера в «Комсомолке», что количество миллионеров в России выросло на одну треть за год. Но, когда смотришь на город, этого не видно: он стал более гуманным.
— Позапрошлым летом ко мне приезжала знакомая, настоящая жительница Нью-Йорка в пятом поколении; она занимается урбанистикой, городским планированием, и она все время указывала мне на то, чего я не вижу. С ее точки зрения, город наполнен рудиментами социалистических оснований, незримыми полубесплатными вещами. Например, помойка — это не проблема, потому что ночью или рано утром невидимая оранжевая машина увозит мусор. «Скорая» приезжает по звонку. Общественный транспорт с безлимитным проездным. И она это увидела прямо внутри структуры города. Ты с такой точки зрения видишь Москву? Ты замечаешь еще в городе элементы социалистического планирования?
— Наверное, это социалистическое пространство еще осталось.
— А ты не замечаешь некоторой театральности новой планировки? Вот эти дома, которые теперь видно, как будто они на помосте. С другой стороны, решается проблема первых этажей больших блочных домов: открываются кафе, магазины, часть жилого дома становится public space. Но, в принципе, это все равно многоквартирный дом, где нельзя сделать из своей квартиры такой офшор, это все равно часть как бы социалистического планирования.
— Да, потому что это очень трудно менять. Тем более что еще остается очень много непонятного с юридической точки зрения. Я слежу за исследованиями группы ученых вокруг фонда «Хамовники» Симона Кордонского; они как раз занимаются тем, как смешиваются эти пространства — старое социалистическое и новое гибридное.
Для меня еще очень интересна была Сибирь, гигантская складка на карте. Сибирь — это для нас что-то непонятное, пространство, которое русские завоевали, а потом начали процесс модернизации, колонизации. Но, когда ты видишь Красноярск или Томск, тебе вдруг очевидно, что это сама модель модерна, что это более европейские города, чем половина городов Европы, потому что у них нет прошлого. Русские приехали — здесь пустота. Что делать? Позвали немцев, французов, сами начали строить по европейским лекалам. Ты смотришь на карту — пара городов, вокруг пустота, но они построены сразу как современные, модерновые города вместе со всей инфраструктурой. Сибирь для меня — это большой карман Европы. Даже слишком большой: европейцы не понимают, что с ним делать, да и русским это тоже понятно не до конца.
— А может быть, это, наоборот, Восток, как Гонконг или Дубай, где в пустыне сразу открывают музей современного искусства, потому что в стране нет своей modernity?
— Конечно! Это такая форма автоколонизации. Какой у них там музей? Мы будем строить в том же стиле в четыре раза больше.
— Ну, ты знаешь, что повседневной, так сказать, черновой модернизацией Сибири занимались польские ссыльные. Чуть западнее, в Перми, есть книжный магазин «Пиотровский», названный в честь поляка, открывшего первый книжный на Урале. В Красноярске ежедневная работа по окультуриванию легла на плечи ссыльных, участвовавших в Польском восстании. Но вернемся в Москву. Не попадалась ли тебе дискуссия по поводу амбициозного проекта «реновации»? Город собирается снести хрущевки и на их месте построить новые кварталы, какой-то конкурс выиграло бюро Рикардо Бофилла. Мне кажется, это прецедент. Потому что это был советский проект того, что называется social housing. И вот это социальное жилье, конечно, устарело, исчерпало свой ресурс, но многие квартиры были приватизированы, то есть во многом формально это частная собственность. Соответственно, капиталистическое государство не должно заботиться о руинизации частной собственности, жильцы должны сами объединиться, брать кредит, заниматься редевелопментом. Тем не менее это делает за них государство. Государство говорит: хрущевки — это место обитания людей, не очень встроенных в современные денежные отношения, здесь много пенсионеров, и, если действовать по букве закона, будет очень много обманутых, пострадавших. И поэтому государство, с одной стороны, будет обменивать эти квартиры бесплатно на другие, а с другой, предлагает вступить в товарно-денежные отношения с застройщиками, выступая в роли посредника. То есть ты можешь что-то купить у государства, государство продаст что-то девелопменту и выполняет как бы патерналистскую функцию. Это в каком-то смысле антиреституция. Такой новый social housing, но c деньгами.
Пока толком ничего еще не построено, но есть завораживающая железная дорога МЦК (Московское центральное кольцо). Ты не ездил? Это такой S-Bahn, путешествие в будущее: современные бесшумные поезда, очень смешно объявляют станции на английском, вайфай. При этом поезд едет в пустыне, в полях, где нет ничего, какие-то промзоны.
— Это забавно, потому что раньше процесс был другим: мы все приватизируем. Сейчас это интересный симбиоз, что-то совсем новое, больше похожее на китайский вариант. Тем более что для государства есть в этом какая-то рациональность, свой резон запустить такой процесс, потому что государству нужна эта земля.
— Мне кажется, план в том, чтобы придвинуть жилье к новой железной дороге, как-то переселить людей.
— Да, а когда надо сдвинуть, это становится уже другой формой собственности. Да, это не твое, но у тебя есть сила, чтобы с этой формой собственности играть. Раньше как делали коммунисты? Они передвигали дома на рельсах. Дом, в котором ты жил, был вроде бы твоим, но и не твоим, а собственностью государства. И они просто ставили церковь или дом на рельсы и двигали, например, на 200 метров, чтобы проложить дорогу или построить здание побольше. Сейчас вместо рельсов деньги. Можно подвинуть дом на деньгах, как на масле. И они найдут такие комбинации, новые формы собственности. Я буду брать у тебя землю, ты у меня — часть бизнеса. Тут интересно не только что будет построено, но и что будет с владельцами, что они получат, куда пойдут деньги.
— Как в Нью-Йорке, будет вытеснение из дорожающих районов. Часть хрущевок находится в районах, которые за счет новой системы транспорта становятся ближе к центру. Вот наш офис (издательства Ad Marginem. — Ред.) — за Третьим кольцом, но теперь это двадцать минут на автобусе до Кремля. И я думаю, что эти рельсы и нас увезут в итоге за железную дорогу. Так выглядит Нью-Йорк: там независимые издательства находятся где-нибудь за Gowanus, часа два ехать из Манхэттена…
— Да, если хочешь быть независимым, ты должен быть подальше от Кремля. (Смеются.)
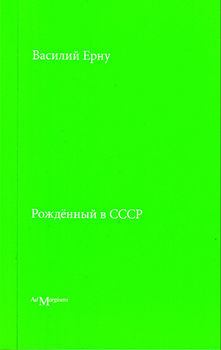 © Ad Marginem, 2007
© Ad Marginem, 2007— Давай поговорим о твоей книге «Рожденный в СССР»: она написана 12 лет назад, а на русском вышла в 2007-м. Что ты думаешь сегодня о месте советского в зоне гуманитарного интереса и в современности? Можно ли сказать, что советский опыт маргинализировался с годами?
— Ну да, он, во-первых, не вошел в тренды…
— Точнее, вошел и вышел.
— Он остался, конечно, маргинальным. Если вначале была тенденция, что этот материал будет в моде, то потом развернулся сначала академический, архивирующий дискурс, а в последние 10 лет к нему добавился демонизирующий — и все пошло совсем в другую сторону. Места для исследований советского осталось очень мало. Но для меня наша история, праксис, который был в Советском Союзе, — это богатейший материал. Тем более, думаю, он не отжил еще свое и еще будет востребован. Например, опыт ускользания, способы жить вне либеральных связей, либеральной экономики. Сегодня очень мало людей знает, как это возможно, потому что этот экономический тренд тотален. Если людей в Румынии заставляют платить за вход в парк, им говорят: это хорошо, потому что это частная собственность. Либеральный тренд дошел до того, что все, что приватное, — хорошо, а все, что не приватное, — очень плохо. Людям надо как-то сказать, что есть вещи, которые не продаются, есть вещи, которые работают в другом режиме, отличном от капиталистической экономики, что между людьми существуют связи, обмен и так далее. И советский опыт может быть тут помощником.
— Как изменилась со времен книги «Рожденный в СССР» твоя исследовательская оптика?
— Я теперь работаю с другими темами и проблемами. С тех пор я написал еще шесть книг. В последнее время меня интересуют маргинальные, автономные группы. Я написал книгу про маленькую общину из Буджака (это на юге Бессарабии), про такое религиозное комьюнити в духе староверов. Это docu-fiction, я рассказываю историю одной семьи: как она жила при царизме, при «Романия маре», при фашизме и при советском, социалистическом режиме. Их обыденность — быть против всех, и они практиковали разные техники выживания. Вот ты сидишь, сегодня фашисты уезжают, приезжают коммунисты. У тебя пять паспортов. И каждое поколение рождается в другой стране, в другом режиме, не покидая родного села. Очень интересно! Тем более в таком замкнутом пространстве.
Эта община из религиозных принципов, конечно, но продемонстрировала, что можно жить при разных режимах, выстроить и сохранить собственную систему воспитания, форму экономики. Как эти сектанты жили при коммунистическом правлении? Было несколько путей. Все работали, потому что, как мы знаем, нельзя было не работать, за тунеядство преследовали. Поэтому они поняли две вещи: им нужны свободное время и такая форма работы, чтобы быть подальше от государства. И восемьдесят процентов общины устроились сторожами в детские сады. Это было отличное занятие, потому что ты просто спишь: ведь никто ничего в детских садах не воровал, и сторожить было, по сути, нечего. Так что у них со связью с государством было все нормально, они работали в государственных структурах. Плюс у них были три свободных дня. У всех был домашний бизнес: кто-то растил овощи, кто-то делал полушубки. И зарабатывали они бешеные деньги. Но надо было сперва изобрести такую форму жизни, создать свой вариант выживания. А после распада коммунистической системы у них все вдруг поменялось, и им пришлось заново выстраивать стратегию выживания теперь уже в капиталистическом контексте. И это оказалось трудной задачей, потому что появились новые формы контроля. Например, возникла проблема займа, проблема с ресурсами, со свободным временем.
Поэтому я думаю, что советский опыт в целом достаточно интересен именно с точки зрения сопротивления системе. Ну и есть еще проблема таких понятий, как, например, социалистическое пространство. Вот, например, надо или не надо приватизировать парк? В Румынии, если ты скажешь: «Конечно, надо приватизировать, да, мы будем платить, но там будет все аккуратно, чисто», — ты будешь там благожелательно принят. А потом ты говоришь: ну о'кей, но кто позволит себе в этом парке гулять и что делать с остальными? Или проблема транспорта. Вот в Советском Союзе было как с транспортом? Он, конечно, был грязный, плохой, но у тебя был проездной и вообще было чувство, что ты можешь и не платить. Сейчас это почти невозможно.
— В Москве возможно. Я наблюдал на днях дискуссию в трамвае контролера и безбилетников («Женщина, что я вас обманывать буду, я прикладывал»).
— В Москве, значит, еще сохранилось (пост)советское пространство. Потому что в Румынии, например, есть государственный и частный транспорт. В частном просто сидит шофер у двери, и ты платишь, чтобы войти. Я видел, как в автобус хотела сесть женщина с двумя детьми, у нее не хватило пятидесяти центов и ее не взяли. Вот в чем разница. И исследовать эту разницу продуктивно, потому что советское — это, в первую очередь, другие формы пространства, другие связи между людьми. И мы можем научиться у прошлого, как жить вне достаточно жесткой современной экономической системы…
У нас сейчас самые модные левацкие места — кооперативы. Десять людей что-то открыли, работают и содержат этот кооператив совместно… Так что кооперативы входят в моду; правда, это еще не значит, что это работает не внутри капиталистической системы, скорее, это автономная зона внутри капитализма.
— В России советское остается токсичной темой, которая сразу попадает в пространство идеологического спора. Любая операция с советским опытом сразу маркируется как советская или антисоветская, но тем не менее во всем мире производят новые процедуры с этим опытом. Ты знаешь, что Фукуяма недавно в интервью сообщил, что нам нужно посмотреть внимательнее на социалистический опыт и, возможно, частично к нему вернуться. Следишь ли ты за этим новым контекстом? Как ты его видишь из Румынии? Насколько это идеологически заряженный материал?
— Для меня социалистический опыт не несет в себе вопроса, что что-то можно или нужно восстановить. Ничего восстановить невозможно. И это не предмет моего анализа. Меня интересует, что взять из этого опыта, что было бы оптимальным для нашего будущего. То есть советское не как идеология, а как разные формы праксиса.
— Тебе не попадалась в руки книга «Why Women Had Better Sex under Socialism» Кристен Годзи (Kristen R. Ghodsee)? Автор в основном опирается на данные и статистику ГДР и Болгарии, но тем не менее, конечно, и советское общество было вполне феминистическим. У женщин был свой источник дохода, они работали и имели доступ практически ко всем социальным практикам. Это и подчеркивает Кристен помимо каких-то вполне комических вещей — что вроде бы восточные немки были более благополучными в интимной жизни, потому что их уход за ребенком был ограничен. Бедные западные немки, родив, оказывались сразу без работы, с посудомоечной машиной, делать им было абсолютно нечего, и они погружались в пучины депрессии. А у восточных немок, которым надо было на работу, которые стояли в очередях, как-то все лучше получалось с сексом. Как ты полагаешь, можно ли говорить о советском феминизме? Это действительно практическая наработка, которая может быть взята в современность и в будущее? Или это, скорее, вопрос информационного дизайна, переназывания модными словами нерелевантных вещей?
— Трудный вопрос, потому что надо брать в расчет еще и пропагандистский метод, который был принят в Советском Союзе. Конечно, женщины имели право голосовать, устраиваться на разные формы работы, не говоря уже об учебе.
— Имели собственный источник дохода, а значит, свободу в семейных отношениях…
— Да. Например, Вторая мировая война была с феминистическим уклоном, потому что все ребята уехали на войну, а дома остались женщины. Кто работал на заводах? Женщины. Кто координировал весь процесс в тылу? Они же. Это был процесс беспрецедентной эмансипации. То же самое было и в период коллективизации, потому что нужна была рабочая сила и женщины должны были участвовать. Женщины были более прагматичными, серьезными, чем мужчины. На Западе, в Америке то, что у нас делалось в 1920-е — 1930-е, случилось только в 1960-е.
Ну и, конечно, был еще тот нюанс, что большая часть России, семьдесят процентов, жила в деревнях и селах и девушки из села приезжали в Москву, так что понадобилось еще одно поколение, чтобы они как-то урбанизировались. В Румынии сейчас происходит похожая история — модернизация через миграцию. У нас очень большой процент людей, выезжающих на заработки в другие страны, то есть идет процесс модернизации сельских ребят и девушек.
— А можно ли говорить о советском экологическом мышлении? Твоя книга все время движется между темой ностальгии, любования артефактами прошлого, а с другой стороны, попытками выявить принципы организации жизни, которые можно абстрагировать от конкретных фактов. Тема экологии, мне кажется, находится прямо посередине. С одной стороны, есть древняя история, что раньше все было лучше, трава зеленее… Но действительно же продукты были лучше, да? Помидоры были реально лучше, они действительно были вкуснее.
— Это правда, но, например, когда ты говоришь, что фрукты были лучше, это было не потому, что мы так их выращивали. Мы, может, и хотели бы использовать гербициды, но их просто не было. Мы бы хотели использовать в большей степени ядерные устройства, но просто их не было. И с экологией было так же…
— Это же главный принцип экологии — невмешательство.
— Да, я помню, когда мы еще были маленькими, мы ездили собирать яблоки, и все ящики были деревянными. Сейчас это стоит офигенно дорого — делать ящики из дерева. Потом все было бумажное. Помнишь, эта бумага…
— Крафт.
— Везде было все в крафте. Для нас пластиковый пакет, который мы сейчас ненавидим, был чем-то капиталистическим, мы его стирали. Не было ничего лучше пластикового пакета. Или вот авоська — вообще гениальная вещь. Кто-то ее изобрел в Чехии в 1920-х. Первоначально это была сетка для головы, чтобы зафиксировать прическу, а потом кто-то придумал принести в ней булочку из магазина. Авоська была очень прочной, прозрачной. А прозрачность, прочность — это просто идеально, это эко! А сейчас авосек нет. И если капитализм когда-нибудь рухнет, то потому, что он искоренил авоську. Без авоськи невозможно, авоська — это все. Я думаю, в нашем веке была еще примитивная модернизация, когда у нас не было многих вещей, когда мы хотели обогнать — но не обогнали. Мы остались в примитивном модерне… Весь этот сбор макулатуры, советский recycle, эти бутылки…
— Раздельный сбор мусора. Тоже очень передовая социальная практика.
— Очень! И в 1960-е это уже было программным процессом. Макулатура, стекло, металлолом были главными вещами. Как в мультиках: огонь, вода… Так и у нас — пять или сколько там материй. Бутылки — это еще и альтернативный капитализм, потому что бутылка стоила 20 копеек: пять бутылок — и у тебя рубль, а это пять штук мороженого.
— Но ты считаешь при этом, что все эти передовые практики — просто из-за отсутствия ресурса, из-за того, что не было денег на пестициды, правильно?
— Нет, я думаю, что это комбинированный процесс. Надо посмотреть на то, как это выглядело на идеологическом уровне.
Мой сын сейчас учится в школе, и мне интересно, как говорится, «в чьи руки попадет воздвигнутое нами здание». У нас с женой идет спор, покупать ли сыну электронную доску или нет. Интерактивная доска — нужная вещь, но то, что осталось в памяти от доски у меня, — это как я ее вытирал. А это было частью педагогического процесса. Может, вытирать доски — это и есть самое главное, а не писать на них? Или я думаю, почему нас учили с первого класса идти и искать бумагу, лом. Мы собирали ромашку, цветки липы. Организаторы над этим думали, видимо, тоже как над педагогическим процессом. Я не уверен, что им так уж нужны были ресурсы. Зачем в четвертом классе собирать металлолом? Конечно, тут была идеологическая пристройка. Это делалось не только для экологии или потому, что в стране не было металла.
— Хорошо, что ты вспомнил о школе. С одной стороны, социалистическая организация общества контролировала все — тебе нужно было принести определенную тетрадку, делать всегда что-то определенное, но с другой, все социологи говорят, что инфантилизация общества в более открытом («свободном») мире только нарастает: kidalts и так далее. В СССР был сильный государственный патернализм, но дети при этом были менее инфантилизированы, советской «кидалт»-культуры не было. Студенту было несложно найти первую работу, социализироваться, уехать из дома.
— Да, например, в Румынии наше поколение — ну, почти наше, конца 70-х — называлось «дети с ключом на шее». Родители работали, дети шли в первый класс и уже в 12 дня были свободны. В семь лет каждый мог прийти домой, а чтобы не потерять ключи, их носили на шее. Сейчас у нас есть телефон, и каждые пять минут мы можем узнать, где наш ребенок и что он делает. Я думаю, что мы этим убиваем его иммунитет, самостоятельность. Мы ему не говорим, что наблюдаем за ним, но он это чувствует. Социальность уже работает на него: все на меня смотрят, все знают, где я, за меня будет кто-то принимать решения. Последнее время мы много разговариваем на эту тему, потому что я не вполне сторонник новых трендов, а именно — что образование должно быть игрой, детям должно быть комфортно. Вторая моя книга именно о том, что мы хотим сделать педагогику позитивной, учить людей, как достичь успеха и так далее. А меня интересует, как подготовить детей к апокалипсису, к потере, объяснить, что не все будут победителями, что будут и проигравшие.
— Стоицизм.
— Да, такая негативная педагогика. Тем более что в жизни и нас, и детей, на самом деле, больше интересуют отрицательные герои, они более привлекательные…
Возвращаясь к образованию: оно включало в себя тогда необходимые элементы негативного опыта. Что я ненавидел в советский период? Я не любил мыть полы, но мы раз в месяц мыли пол в классе, это тоже было частью проекта. Потом с четвертого класса мы работали в колхозах, было очень много работы, нас эксплуатировали. Было, конечно, много милитаризма, все эти игры — «Орленок», «Зарница» и так далее. И еще у нас был такой предмет, как труд. А сейчас таких материальных форм педагогики, при которых дети брали бы на себя ответственность, очень мало. И, напротив, много игрового: например, давай играть в то, что ты — бизнесмен.
— В твоей первой книге красной нитью проходит мысль, что главное наследие советского эксперимента — это набор новых социальных типажей. Ты их делишь на несколько типов: политруки, диссиденты, трикстеры… Я не уверен именно в таком разделении, но, безусловно, советский эксперимент породил гигантское количество людей другого типа. Как ты думаешь, что происходит с «хомо советикус» сегодня?
— Парадоксально, но коммунизм очень хорошо подготовил нас к капитализму, я так считаю. Несмотря на весь негативный контекст таких понятий, как «хомо советикус», «совок» и так далее, мы вдруг поняли, что разные слои нашего населения — и интеллигенция, и технари, и рабочие — хорошо адаптируются на глобальном рынке. Те, кто не сумел адаптироваться, не смогли это сделать от психологического давления. У советских людей время работало совсем по-другому, чем при капитализме, сейчас все происходит очень быстро. В Советском Союзе было слишком много времени. Я с сыном пересматривал советские мультики. Есть один, например, где тащат репку дед, бабушка, кошка… Он идет двадцать пять минут, и они двадцать пять минут тащат репку. Сын смотрит-смотрит и говорит: «Папа, Супермен за пять минут уже три галактики уничтожит, а тут они…» Просто время в них идет совсем по-другому, нарратив устроен иначе.
Одна из самых больших проблем СССР была в том, что он не мог ускорять время. Капитализм потому и победил, что смог изъять время у людей. Тем, кто сопротивлялся, просто выдали кредит — и все, их время оказалось отчуждено, они были вынуждены работать теперь на заем. Советский режим не мог ускорять процесс изъятия у людей времени. У нас было его слишком много, чтобы думать о том, как убить эту систему.
У Бориса Гройса есть интересная мысль, что коммунизм был ускоренным процессом подготовки более отсталой части мира к капитализму. Просто промежуточным временем, промежуточной формой педагогики, направленной на то, чтобы подготовить нас к глобальному экономическому стилю жизни. А мы, как ты помнишь, всегда были готовы. Мы сейчас строим «нормальный» мир нового стиля, нового дизайна. Но, несмотря на это, у нас осталось очень много уникального из прошлого, потому что в этот промежуток мы были как бы между границами. Просто 70 лет мы не были в этом западном времени, а потом вернулись обратно: мы здесь, ребята, мы можем снова строить с вами капитализм, пожалуйста. Мы учились, посылали кого-то в космос, сейчас вернулись обратно (смеется) и теперь будем вместе.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости
