 В разлуке
В разлукеРазговор c оставшимся
Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202424769
30 ноября в Москве открылась традиционная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. COLTA.RU поговорила с главами издательств — постоянных участников ярмарки, с лидерами интеллектуального книгоиздания в России.
— Как изданные вами книги меняли вашу жизнь?
— Самое начало нулевых годов. Мы издали «Рождение трагедии» Ницше, где много филологической работы, сделанной вокруг текста Александром Викторовичем Михайловым, германистом. И антиковедческой — там опубликованы комментарии, связанные с полемикой времен Ницше. И работа немецкого философа Слотердайка об этом тексте Ницше. При подготовке издания я познакомился с Андреем Россиусом, тогдашним заведующим кафедрой классической филологии в МГУ. И мы с его подачи вместе с Михаилом Котоминым, вторым главой издательства, провели почти две недели в городе Дельфы на конференции филологов-классиков. В то время на деньги Евросоюза раз в год приглашали представителей классической филологии из одной страны — Норвегии, России — и из всех институций: от учителей школ и гимназий до университетских преподавателей. Даже студентов и аспирантов — и самых известных ученых, начиная с Нины Брагинской. Плюс возили на экскурсии. Россиус пристроил нас как «журналистов»: мы ходили на лекции, а в конце должны были написать об этом газетную статью.
— Многие книги вас так далеко уводили?
— В смысле реальной географии — нет. Никуда дальше российских провинциальных мест. К нескольким украинским писателям ездили в Киев на презентации книг. Работали с одним очень своеобразным, под никнеймом «Адольфыч», — Владимиром Адольфовичем Нестеренко. Очень странный персонаж — полукриминальный, полубогемный, полутусовочный — переводчик видеофильмов. Сильно инспирирован кинематографом нулевых годов, написал несколько сценариев, очень талантливых. По одному даже сняли кино — продюсером был Константин Эрнст [фильм «Чужая»]. Издавали его «Огненное погребение», с нами были Игорь Лесев (автор первого украинского хоррор-романа) и Михаил Елизаров, к тому времени мы выпустили три-четыре его книжки. Больше никаких литературных выездов. Ну, в Липецк — 2002 год или 2003-й. Вместе с Владимиром Сорокиным — вышли «Голубое сало», «Пир» и первая часть «Ледяной трилогии» под названием « Лед». Партнеры держали в Липецке магазин, на базе которого мы устроили несколько презентаций.
 © «Ad Marginem»
© «Ad Marginem» — Зачем вы стали заниматься книгоизданием?
— Старая история. Идею книжной серии «по краям» не я придумал, она родилась в научном сообществе Института философии начала 90-х. Я был делегирован делать серию в государственное издательство «Культура», которое возглавлял Михаил Ефимович Швыдкой — потом он стал министром культуры, начальником 2-го канала. В 93-м я откололся от этого проекта, который уже начал залезать в кризис, и свое издательство создал. А в 96-м пришел Михаил Котомин — началась совместная история. Было очень интересно с практической и с познавательной точек зрения. Настало время перемен, одна из них лично для меня заключалась в том, чтобы уйти от чисто академической карьеры — возможность, которая была почти исключена раньше. Другие более радикально меняли жизнь — уезжали из страны, начинали заниматься продажей алкоголя. У нас были магазин и издательство в Замоскворечье — подвал дома, жильцы которого состояли из преподавателей института Гнесиных, это был их кооператив. К нам многие заходили по-соседски — один инженер, который стал работать в туристической фирме. Кто-то начал заниматься извозом, кто-то превратился в челнока. В драйве 90-х годов Михаил, например, будучи студентом, подрабатывал продавцом. Время сочетаний, гибридных форм деятельности — многие гуманитарии ушли в издательский мир.
— Все-таки довольно резкая смена карьеры!
— Я до аспирантуры был командиром минометного взвода два года в армии. Для меня ничего странного не было в том, чтобы сменить род занятий, начать делать книжки. Более-менее одна территория, связанная с интеллектуальной деятельностью — ставшей более практической. Не то чтобы я, к примеру, занимался философией, а стал продавать машины. Не вижу проблемы экзистенциальной — ни тогда, ни сейчас.
— Какие точки развития прошло ваше издательство?
— Все начиналось как попытка преодолеть дефицит информационный: современное поле гуманитарного знания было недостаточно освоено, многих книг просто не было по-русски — из числа важных, классических трудов XX века. Поэтому в первый период мы публиковали очень важные переводные труды — например, «Бытие и время» Хайдеггера, или «Массу и власть» Канетти, или «О грамматологии» Деррида, или первый текст Делёза по-русски. «Московский дневник» Беньямина, лекции о Прусте Мераба Мамардашвили. Тексты, которые не традиционно оформляли философское поле, а представляли философию на границе с другими практиками — будь то литература или искусство. Потом начался период, когда мы стали (в конце 90-х — начале нулевых) активно работать с современной литературой, прозой. Двухтомник Сорокина, потом — Павел Пепперштейн, «Диета старика», «Мифогенная любовь каст», линейка совсем уже неизвестных авторов: Елизаров, Козлов, частично — переводная литература из Германии, такие авторы, как Кристиан Крахт и Инго Шульце. Или британские авторы — мы первые опубликовали Уилла Селфа по-русски. Социально маркированная проза, очень реактивная в отношении социальных трансформаций. В этой волне мы просуществовали до 2008 года, пока изданный нами «Библиотекарь» Елизарова не получил Русского Букера, и это стало маркером: издательство маленького типа не может удерживать долго авторов, которые попадают в мейнстрим. Прилепин и Елизаров, Сорокин и Гиголашвили постепенно уходят к издательствам покрупнее — у нас остается возможность продолжать дальше искать альтернативную литературу, которая пока не является мейнстримной, или осваивать другие направления деятельности, что мы и начали делать.
С конца нулевых и в начале десятых мы стали по-другому понимать издательский процесс. Даже не как поиск отдельных авторов, а как оформление своей издательской территории — с особой эстетикой, рубрикатором, внутренней перекличкой сюжетов. Сейчас мы занимаемся разнообразными полями: от классического нон-фикшн — дневников Сьюзен Зонтаг или Юнгера — до литературы, связанной с арт-критикой и теорией, экономической критикой, частично — философией, как она сегодня выглядит — с большим разворотом в сторону антропологии и различных современных культурных практик. Внутренняя констелляция образовывается. Вот третий этап.
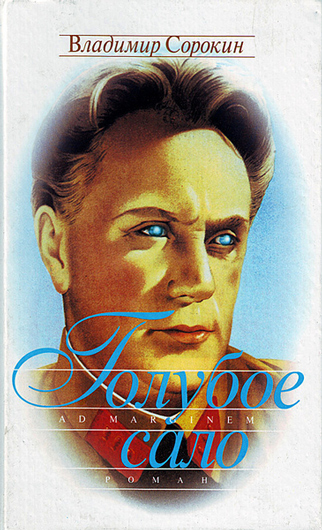 © «Ad Marginem»
© «Ad Marginem» — Если вы образовываете политику издательства ради «внутренней констелляции», то рассчитываете ли на читателя, который ее всю вместит?
— Это связано с интуицией стиля. Здесь, скорее, вопрос не номенклатуры изданий, а единого стилевого движения. Темы, сюжеты могут быть самыми разнообразными — когда издательский каталог приближается к двумстам книгам, появляются внутренние рифмы, пересекающиеся ходы. Мы пытаемся представить себе маленький магазин, где продаются только наши книги (что пока нереально, конечно). Какие бы у него были новые рубрикаторы? Отдельная полка — с немного странной поэзией. Полка с архивом современности — XX век, как он нами понимается, где было бы много литературы, связанной с визуальными опытами и практиками. Михаил сейчас работает над книгами, где изображение и картинки не менее важный месседж дают, чем текст. Небольшая полка фикшн — переводного и отечественного. Представьте магазин, который продает не книги, а, например, одежду; вы в него заходите и мгновенно понимаете, что это ваш магазин — по стилю, дизайну и т.п.
— У вас есть такой магазин?
— У всех: у вас, у меня… Как расставлены предметы, какой запах, дизайн — или отсутствие дизайна. Что-то вам напоминает... Ловите себя на избирательном сродстве. Это может быть кафе, чужая квартира, чужая библиотека, даже чужая лента Фейсбука, что угодно — куда вы случайно попадаете и думаете: «О, как клево, как интересно!» В отличие от вашей, довольно скучной, ленты, где постоянное «бу-бу-бу», к которому давно привыкли, чужая производит впечатление экзотического пространства, где все ново — и интересно. Речь идет не о рационально-последовательном, дискурсивном удержании определенного единства, а о стилистическом. Одномоментное понимание стиля, который очень трудно формально определить — но поиск и стремление к которому являются очень важной компонентой любого вида деятельности. Дизайна одежды, придумывания прозы, даже сочинения научного труда.
Есть очень дорогие вина. Вы покупаете, пьете — не трогает. И вдруг берете относительно дешевое — и понимаете, что в нем есть характер, индивидуальность. Немножко непроработанная, не без вульгарности — но поражает. Или в куске хлеба! Это касается всего, составляет смысл издательского проекта, любого: посылать не столько просветительский месседж, сколько стилистический — или стилистически-просветительский.
— Чем больше книг выпускаете, тем точнее месседж?
— Не обязательно. Есть предел — чтобы мы вдвоем с Михаилом смогли если не пристально прочесть, то хотя бы внимательно просмотреть книги, которые издаем, перед тем, как они выйдут. Издательство, нуждающееся в наемных экспертах, перестает быть издательством среднего или малого типа. Оно организуется как концерн, где основные типы удовольствия — от чтения, например, — передоверяются так называемым профессионалам. Мы хотели бы сами получать их. Конечно, есть другие радости — от прибыли, например, — но радость от чтения дороже стоит. Поэтому мы не стремимся к безграничному увеличению количества титулов. 30—40 или чуть больше книг в год — то, что мы можем себе позволить. Каждому надо внимательно прочесть 10—15, а оставшиеся — просмотреть. Иногда понятно сразу: книга наша, будем издавать. Иногда, когда книга сериальная, очень часто знаем, что она подкреплена предыдущими — не станет ни резким провалом, ни откровением. К сериям мы относимся не как к самым близким своим продуктам, но понимаем их важность. Строгие серии в одном и том же дизайне.
— Как вы определяете, какую книгу выпускать?
— Разные источники информации и аффекции. Есть поляна из наших книжек, каждая иррадиирует, подает сигналы о своем ближайшем контексте, который к ней примыкает. Если издали Беньямина — неминуемо придется столкнуться с критической теорией. Она началась в XIX веке: Карл Маркс… Критика, которая не описывает действительность как она есть, а рассуждает, насколько и почему действительность искажена. Маркс во 2—4-м томах «Капитала» разбирает, как неправильно экономисты интерпретируют стоимость, его любимое словечко для описания их концепций — «вульгарный». Критическая теория диктует, чтобы после Беньямина мы обратились к XIX веку, а с другой стороны — к окружению Беньямина: к Франкфуртскому институту, Адорно, Хоркхаймеру, к современной им ваймарской культуре — и отметили возникновение современных форм культуркритики, кинокритики в лице Кракауэра или арт-критики в лице Вёльфлина. Критические дискурсы доходят до французской теории, до Фуко и Бурдьё, до различных версий постфукианской и постбурдьеанской теории… Будем издавать книжку «Адорно в Неаполе», там рассказывается о контексте пребывания немецких интеллектуалов 20—30-х годов в забытом богом уголке тогдашней Италии, где они заставали очень близкую и понятную для себя среду, в которой происходило общение между ними. Присоединяется детская серия, где возникает попытка рассказать о философии Ханны Арендт. На свой страх и риск книга не излагает, а разыгрывает ее философию. С замечательными иллюстрациями — ее можно рекомендовать и для взрослых. Лис в книге — Хайдеггер. Описаны девочка Арендт и взрослая Арендт.
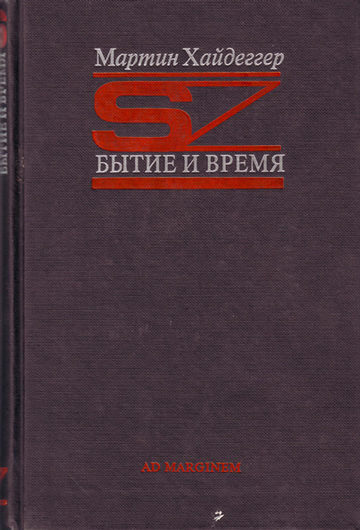 © «Ad Marginem»
© «Ad Marginem» — Вам не жалко ощущения, которое было раньше — без поляны, по лесу можно ходить?
— Поляна есть всегда. Всегда есть уже имеющиеся сущности: в зависимости от знания индивидуального, изданных книг вы всегда уже что-то знаете или считаете, что знаете, — с чем-то имеете дело — не пусты, всегда чем-то наполнены. Можете включать режим соединения того, чем наполнены, с тем, что еще предстоит узнать.
— Хочется же дистанцироваться в новое, а когда своего много, которое не успеваешь соединить…
— Новое возникает, но не располагается далеко. Новое за окном, всегда рядом, на расстоянии вытянутой руки — просто часто не опознается как новое. Для нового нужен экстаз, упоение новизной. У апостола Павла была такая страсть. Новое — не объективная реальность вокруг апостола Павла. Все было довольно старым с точки зрения иудейского контекста. Но апостол Павел считал, что все — новое. Здесь можно развернуться в некую шизофрению. Врачи говорят, что когда шизофреник пишет текст — часто и стихи, и прозу, — и врач спрашивает его: «Скажите, Николай Иванович, что нового вы написали?» — «Как что? Да практически все. Видите эту букву? Новая буква, я придумал». Можно все воспринимать как новую реальность. Я за то, чтобы понять, что слово «новое» парадоксально. Оно отсылает к полю субъективного опыта скорее, чем к полю объектов. Новое — регистр или способ, ракурс взгляда.
— Объективно новое в издательском деле не бывает и вас не найдет?
— Для регистрации прибором или радаром в качестве нового…
— Исключительно вопрос радара?
— Нет, вопрос радаров как коллективной способности. Чтобы то, что я принимаю за новое, стало новым для вас… Апостол Павел, раз уж мы его вспомнили, полагал: то, что с ним случилось по пути в Дамаск, было онтологической, экзистенциальной трансформацией. После нее вся повседневная рутина, вся миссионерская деятельность освящены одним событием. И чтобы событие действительно стало ключевым, должна была сложиться network — сеть агентов в виде новых членов христианской общины.
— Ваша сеть сложилась однажды?
— Продолжает расти. Сеть союзников или членов network постоянно размножается, фрагмент может отсохнуть — но другой растет. Сеть живет своей жизнью — в ней и возникает новое как коммуникативная реальность. На этой стадии можно фиксировать объективность новизны — но не как сундука с вещами, а как разделяемого всеми знания, опыта или аффекта. Так функционирует новое в культуре. Думаю, новое не уменьшается и не увеличивается: живет в своем пространственном поле, прекрасно корреспондируя со старым. Не только в культуре — в политике, в чем угодно. Новое не движется по линии следования за старым, что предполагало бы, будто нужно ожидать наиновейшего. Более того: модернизм доказал, что «самое новое» переплетено с актуализацией архаичного. Всегда самый новый авангардный проект с этим связан: настенная живопись в пещерах, примитивное искусство доисторических времен, русская икона — всегда наиновейшее представляло собой не простое движение прогресса, а возврат к основанию, к истокам — и скачок вперед. Назад — и вперед. Странная вещь, которая топологию нового задает иначе, чем кажется.
— Сколько книг перед вами ежедневно?
— Неконтролируемая масса, грибница. Что-то — с экрана, что-то — в распечатке. Провалился в книгу американских знакомых об арт-активизме — непонятно, покупать ли права: вязкая оказалась, не могу продвинуться дальше 127-й страницы. Всего — 150. Наверное, не будем покупать.
— Когда вы начали задумываться о деньгах и прибыли?
— К сожалению, не в самом начале, не в 90-е. Самые успешные издательские проекты — те, во главе которых стоят люди с математическим или техническим образованием. Люди, для которых кроме арифметики существует алгебра и высшая математика. Которые могут брать интегралы и легко работать с функцией.
— Вы не берете интеграл?
— Беру, но уже с большим трудом. Любовь к цифровой упорядоченности и способность контролировать цифры очень важны для успеха в бизнесе. Гуманитарии типа меня не очень в прибыли преуспели. Сейчас издательство стабилизировалось, есть прибыль и наконец-то перспективное планирование. Прибыль — довольно сложное понятие, его трудно представить: нужны детальные расчеты, связанные с определением доходов и расходов. И каким образом их динамика соотносится.
— Вычесть одно из другого — и будет прибыль!
— Казалось бы, в два столбика подсчитали и вычли! Но есть сложные функциональные зависимости: как подсчитывать в расходах то, что трудно учесть, — например, хранение на складе (а складов у нас три, каждый по-своему стоит)? Полной математической формулой я не владею — могу только ввести примерную переменную, характеризующую количество денег, которые мы платим за содержание одной книги в год на складе. Бывает иногда выгоднее не держать — подарить или даже уничтожить остатки тиража. Во многих аспектах деятельности нужно сопоставлять пространственные и временные параметры. И то, и другое — со своей стоимостью.
— Вы не возьмете пять учебников по алгебре и не подучите?
— С другой стороны, я по опыту знаю, что бизнес очень успешной компании имеет темную зону в самом начале зарождения, которая не учитывается. Большой беспроцентный кредит, неучтенные доходы, которые включаются в оборот. Сейчас мы стараемся вести максимально подробный учет, но роль интуиции в понимании того, на каком ты находишься финансовом свете, очень важна. Рассчитать все с точностью до рубля мы не в состоянии. Но мы сводим концы с концами и даже увеличиваем обороты и доходность издательства.
— Вопрос немного в другую сторону. Вы считаете, что авторитарный режим сгущается в тоталитарный? Многим СМИ жить хуже, редакции разгоняются. До издательств докатится?
— Надо обсуждать, что вы понимаете под столь тяжелыми словами, что означает это ваше философствование молотом. В этих словах есть какая-нибудь онтология или это чисто критическое высказывание? Если у вас критическая оптика, как у многих людей в Фейсбуке, — вы, вероятно, не готовы долгое время уделять описанию положения дел. Люди в Фейсбуке начинают и заканчивают перечнем недостатков или чудовищных язв — что тоже возможно, но поставить диагноз таким способом довольно сложно. Организм, человеческий или общественный, не сводится к тому, что у вас образовалась язва на ноге. В организме что-то соединилось так, что дало выход заболеванию в каком-то другом месте. Ситуация сложна и политически, и экономически, но я не готов описывать ее такими понятиями — нужна более сложная онтология. Я пробую ее обнаружить. И не вижу, как пытаются доказать некоторые СМИ, радикального изменения ситуации с 1996 по 2016 год. Нынешняя ситуация зародилась не вчера и даже не в последние десятилетия.
— Все аналитики проходят через две точки последних нескольких лет: Крым, санкции.
— Крым, санкции — о'кей, но это только язва на ноге. А проблемы заложены гораздо глубже. Все неразрешимости были заложены в 90-е. Я не связываю это только с деятельностью Путина — с конца 80-х мы оказались в кризисе. Генеалогия проблем связана с резкой деиндустриализацией 92—96-го годов. Она привела к очень сильному — экономическому, социальному, демографическому — ослаблению страны. Есть статистика смертности, заболеваний, алкоголизма, наркомании, говорящая, что 90-е были ужасными. Для меня они не были такими — но не могу же я транслировать свое эйфорическое состояние на всю страну. У этих процессов зачастую нет авторства: невозможно сказать, что во всем виноват Горбачев, Чубайс, Путин, Ельцин, — тысячи разных факторов носят спонтанный характер.
— Тогда делать-то ничего не остается…
— Нет-нет, наоборот. Наоборот — остается понять. Вспомним Лейбница: мы слышим шум волны? Нет, на самом деле — шум, который издает каждая отдельная капля. Просто не доводим анализ своего акустического опыта до конца. Если бы довели — дошли бы до мельчайших перцепций. Если мы настроены на объективное знание — не на идеологическую установку, — то нужно опираться на лейбницевскую максиму. Для меня характер современной ситуации не описывается теми понятиями, которые вы использовали. Могу сказать так: за последние пять-семь лет наше издательство стало гораздо более профессиональным, квалифицированным, эффективным. И другие издательства — как детские (например, издательство «Самокат» или «Клевер»), так и неспециализированные. Изменения очень позитивны. Издатели все больше и больше цивилизуются, не выглядят как странные люди с перьями на международных форумах. Мое понимание современного момента не описывается примером типа «прочел с утра ленту Фейсбука и понял, в какой стране мы живем» (смеется). Фейсбук и нужен, чтобы ужаснуться и крикнуть: «Черт, черт!» — но есть огромный мир, в которым много чего происходит. Я стараюсь ездить в провинциальные города — Казань, Екатеринбург, Новосибирск. Очень хочется побывать на юге — в Ростове, Краснодаре, там происходят интересные процессы. В Ростове есть кластер вокруг старой макаронной фабрики — галерея, книжный магазин, дискуссионный клуб. Центры современной культуры с акцентом на визуальные практики возникают в разных местах. Пермь, например. Много интересных вещей — и тех, которые вызывают оторопь, тоже. Но я не считаю себя профессиональным фейсбучным экспертом по различению добра и зла — морального, экономического, социального, политического. Не уверен, что процессы политики, внутренней или внешней, — чистая манифестация зла. Очень боюсь статуса фейсбучного эксперта.
— Вам этот статус противен или ваше отношение сложнее?
— Фейсбук — как героин. Настоящее информационное зло. Тратишь лишние часы на всякую хрень — я вообще стараюсь не писать там, но вечером, когда уже не остается сил, смотрю в ленту. Адский трэш, в котором я опять оказался — почему, зачем? Если долго не заходил туда — начинается ломка. Очень завидую людям, которые из него уходят. Чем меньше зависимость от интернета, тем экологичнее живешь.
— Вы же не можете без электронной почты — ваша сейчас открыта на экране.
— Почта — нужная вещь. Но социальные медиа — опасная фигня! Я завел себе кнопку «ВКонтакте», чтобы читать интересные паблики. В Инстаграме и Твиттере меня нет. Но я — плохой юзер: есть огромные возможности, которые открываются мировым интернетом — не русским Фейсбуком, конечно. Есть сайты и блоги вокруг изданий вроде «Гардиан», очень интересные немецкие культурные сайты, американские. Познакомился с замечательной американкой, которая ведет блог, посвященный свободному и прекрасно написанному анализу русской прозы. Замечательный критик — живой, реактивный. Не жалеешь времени, чтобы посмотреть пост. Но чаще всего сидишь в огромных мусорных отходах, которые летают по орбитам… Есть разные типы рвоты. Иногда вырвет, когда не успел ничего переварить; в рвоте — непереваренные куски еды. Иногда она совсем десубстантивирована. Интернет похож на разные типы рвоты. Но иногда бывают интересные остатки, фрагменты.
— Вы видите над происходящим в России волну моды? Французский постструктурализм дошел до всех, а русскоязычная мода не возникла?
— Даже резче бы сказал: мы все живем в пространстве состоявшегося постмодернистского дискурса, как его понимал Фуко. Не как тип философского высказывания, а как способ организации всех речевых практик: речевое поведение вроде бы консервативного политика из Думы, какого-то арт-менеджера, человека из экономики — все говорят так, как если бы прочли в изложении для чайников Лиотара, Бодрийяра, Фуко и Деррида. Молодые люди целиком внутри этого дискурса. Например, мы признаем за реальностью множественные виды ее репрезентации. Приезжаете в Грузию — к знакомым, журналистам или людям из академической среды. Современные люди с айфонами, сидят в сети, занимаются аутсорс-работой. Но в какой-то момент становятся грузинами! Когда этот момент может наступить? За ужином, когда начинают говорить очень длинные тосты. Или надевают что-то с газырями. Начинают быть репрезентантами местного. Мы живем в различных уровнях репрезентации. Человек из телевизора — не просто русский, а «русский+». Он не просто живет в современной России, а осознанно живет в ней. Он не просто шатен — а шатен по личному экзистенциальному выбору. Эта игра уровней репрезентации и различных переплетений репрезентативных слоев настолько проникла в нашу жизнь, что мы пытаемся нанести разящий удар в Фейсбуке по неприятному медиаперсонажу — и попадаем в что-то мягкое. Вата! Воздушная сахарная вата. Наш удар мягко пронизывает ее насквозь — как в horror movies, на руках остаются пятна слизи, грязь, остатки слов из информационного мусора и новостной рвоты. В пространстве, где реальность сконструирована различными видами репрезентации, манифестирует себя современное поле экономики и политики.
И интересно, что страна живет в разных темпах. Есть те, кто живет в очень быстрых скоростях: «Я бегу, у меня через час самолет на Гонконг». Какой Гонконг? Его собеседник собирается пойти домой и посмотреть спортивный канал с бутылкой пива. А человек летит за тысячи миль, потом куда-то еще. Есть очень медленные и сверхбыстрые. Россия еще довольно невинная страна, по просторам которой могут ездить коммивояжеры — представители сверхбыстрых скоростей. Приезжают в место, где скорость ниже, чем в Москве или в Лондоне.
— Это Жиль Делёз?
— Нет! Человек Х, который объяснит, что сейчас читают/смотрят/носят в Берлине, в Лондоне. Как думают в Нью-Йорке или в Лондоне. «Хипстеры устарели», — говорит он вам. Никаких хипстеров уже нет! Под этим суждением скоростной экспертизы может стоять любая подпись. Некто приезжает в место, где будет представлять быстрые скорости тем, кто живет в относительно низких. На дифференциале скоростей он будет зарабатывать прибыль. «О, какой быстрый! Как сами деньги». Одно дело — кэш пересчитывать, как в 90-е годы. А другое — электронная платежка: «У-у-х!» — она уже в Нью-Йорке. По скорости денег пытаются вести себя многие люди.
— Вы пытаетесь?
— Иногда да. Такая возможность есть у каждого. Но в других ситуациях люди зарабатывают на мне как на более медлительном. Приезжает эксперт западного рынка, чтобы объяснить мне, как живут цивилизованные страны. У нас давно, говорит он, покупают книги на Амазоне. «У вас есть Амазон?» — «Нет, у нас нету». — «Значит, вы отстали, догоняйте!» Но приезжает коллега из Бразилии: «Амазон — это ад! Он убивает книжные магазины!» На что тот, первый, возражает: «А зачем нам книжные магазины? Нужна оперативная доставка книг, книги — это просто информация». — «Ну как же, книжные магазины, знаете ли, городская жизнь… Купил книжку, сел в кафе, познакомился с кем-то, обсудили книжку». Растрепанный том Парни! Разные скорости. Сегодняшний мир эти скорости монетизирует. Можно монетизировать медленность!
Можно сказать: у нас будет слоуфуд. Обед будет длиться пять часов. Сейчас будем медленно пробовать это фрикасе. Нет абсолютной ценности ни у какой скорости. Какое-то время назад я считал, что самое важное в жизни — найти предельно медленные состояния. Сейчас так не думаю. Каждому важно найти собственные параметры, жить на собственной скорости. Мы обречены жить в дифференциале. Где-то отстали, где-то — проскочили, успели… Форма современной информационной жизни.
— Но все-таки: при том что интеллектуальная мода состоялась, продолжается, описывает — есть ли новая мода, какая-то еще?
— С модами все нормально! Спекулятивный реализм сходит, но в России только набирает обороты. Рекомендую: «Динамика слизи: зарождение, мутация и ползучесть жизни». Очень модно. Латур. Мейясу. Харман. Дико модна антропология! Дико! Тотальная антропологизация всего. Любой вопрос модно ставить антропологически. Не «как я могу это знать?», по традиционной кантовской схеме, а «к какому трайбу это относится?» Вам говорят: «Это племя музейных экспертов. Давайте мы его изучим как антропологи. Во что одеты музейные эксперты?» «Вы знаете, — говорит антрополог, — до конца 90-х годов они все одевались в черное. То была остаточная версия модернистской моды. Бодлер сказал, что все современные ходят в черных рединготах, все на похоронах только что умерших трендов, практикуют культуру изысканной меланхолии… Когда видели людей в черном, все знали — это люди из современного культурного процесса». А сейчас, продолжает антрополог, одеваются по-другому. Могут себе позволить, например, сочетание кроссовок и вечернего платья. Антрополог не спрашивает, о чем люди думают, — он ведет себя как исследователь, изучающий жизнь тех социумов, где не выполняется главное условие модернизма — не практикуется разделение на субстанцию мыслящую и субстанцию протяженную. Он имеет дело не с картезианским субъектом, а с другим типом репрезентации — где то, как люди одеваются и что едят, не менее важно, чем то, о чем они думают. А может, и более.
— Среди русскоязычных теоретиков видите ли вы моду?
— У нас магазины модной одежды или модных дискурсов, как и вся страна, представляют собой слоеный пирог. Кто-то носится с постструктурализмом, как в 90-е. Эта теория не умерла — просто оказалась реализована в экономике и культуре. Из критического дискурса стала онтологическим. Он преподается в университетах, как Франкфуртская школа, — наряду с Платоном. Кто-то увлечен постколониальной теорией.
— Есть ли российский дискурс?
— Истоки современного русского культурного поля находятся в «больших» 70-х годах, с 68-го по 82—83-й. Произошло подгнивание официальной коммунистической идеологии — и пришел национализм. Российский дискурс 70-х — это гибридная версия культур-национализма. В литературе — «деревенская проза», в искусстве — поворот от сурового стиля к декоративно понятому национальному стилю. Владимир Солоухин, «Черные доски». Даже авангардные поэты типа Евтушенко и Вознесенского начинали писать о русской старине… Это началось 40 лет назад. Сейчас идет всемирное повторение этого тренда. Например, на смену ар-деко приходит мода на искусство и дизайн 70-х годов. Глобализация, охватив весь мир, в то же самое время перестает быть ценностью — ценностью становится локализация. Мы будем издавать книгу «Как мыслят леса» американского антрополога Эдуардо Кона, который приходит к выводу, что одна из важнейших черт экологического существования — говорить на диалекте. Это едва ли не самый важный способ вписывания себя в симбиоз со средой обитания. Очень модно говорить с акцентом, с использованием диалектизмов — в России, в Англии, в Бельгии. Если вы приедете в любую страну, проведут по точкам локальности. Не по точкам глобализации, как в 90-е: «У нас есть такое место, которое похоже на все места в мире». Девалоризация глобального — это вызов. Национализм — еще и кризис советского гуманизма, который в своем ядре содержал идею всесторонне развитой личности. Она восходит к флорентийским платоникам — Фичино, Пико делла Мирандоле. Всесторонне развитая молодежь посещала дворцы пионеров, учась одновременно в нескольких секциях. «Драмкружок, кружок по фото, мне и петь еще охота». Современный национализм перестает воспринимать всестороннюю личность как ценность. Внутри этого консервативного тренда находится сегодня стремительно локализирующийся мир.
— Приклеенность к повестке дня — Фейсбука, книжного издательства — как-то влияет на сознание читателя? Есть те, кто читает серию «Библиотека всемирной литературы» по кругу, ничего больше.
— Очень одобряю этих людей. Все читают разное. Мода меня вообще не сильно волнует.
— Но вы ее задаете!
— Возможно. У меня, скажем, есть несколько пар обуви, которые я ношу. Есть те, у кого целые одежные комнаты — у них, думаю, возникает ступор, они медитируют над тем, что выбрать. Но можно немножко походить в этом, а потом — в другом. Не надо на этом зависать. Я не полностью влип в определенную повестку и не окончательно с ней отождествился. В издательстве нет зоны незыблемых устоев.
— Как вам пришло в голову издавать Гераклита? Это вроде бы выходит за все рамки представлений о вашем издательстве!
— Совершенно не выходит! Слушайте, есть переклички. Не то чтобы мы издавали иронический детектив или фэнтези до этого…
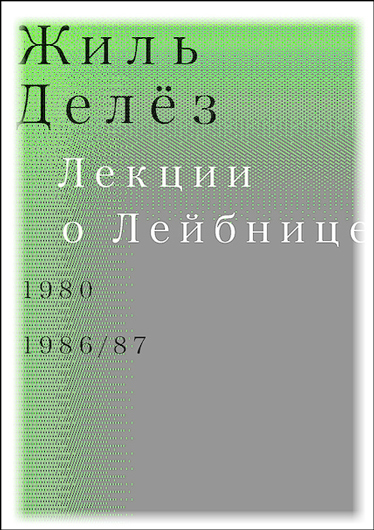 © «Ad Marginem»
© «Ad Marginem» — Но если отсчитать от Гераклита до ближайшей книги по времени написания, которую вы издавали, получится явно больше пары тысяч лет.
— А, вы в большой истории считаете! Нет, Гераклит — очень современный мыслитель. Мыслитель перемен. Европейский мыслитель становления как логоса, то есть как осмысленного бытия. Линия Гераклита очень интересна. Мой любимый Делёз — гераклитианец. Мы издали его «Лекции о Лейбнице», Лейбниц — тоже гераклитианец. Это мыслители, для которых динамические понятия — скорости, интенсивности, массы, — а не геометрические, статуарные — более важны. Поэтому Гераклит — отец-основатель тех философий, которые думают о мире динамическим образом. Тот же Деррида, тот же Фуко, тот же Беньямин. Мыслители того, что Гераклит называл закономерно возгорающим и закономерно угасающим. Философы кривых амплитуд. Гераклит — это круто.
А переводчик — Муравьев — отдельная история. Книга получила разгромный отзыв знаменитого античника Лебедева. Очень резкое открытое письмо и рецензию. Но, думаю, совсем уничтожать книгу не надо — в ней есть страсть. Страсть — это ценность. Человек всю жизнь, начиная с юности, занимается Гераклитом. Понятно, что он не до конца профессионален в своей страсти — но в страсти нельзя быть до конца профессиональным! Он — настоящий безумец, конечно. К тому же из знаменитого семейства Муравьевых. Потомок и Муравьева-декабриста, и Муравьева-вешателя.
— Почему он безумец?
— У него монострасть. Вряд ли шизофрения, скорее — параноидальная страсть… безумец в хорошем смысле слова. Хотя замечательные антиковеды считают, что и в плохом. Возможно, они правы.
— Вы издаете книги для досуга других — или чтобы они нашли смысл жизни?
— Липавский сказал, что мы живем только для одного — для трепета. Для некоторых состояний, которые можно назвать музыкально-ритмическими. Древние стоики называли это тоносом, тоном — как будто степенью натянутости струны и разным звукоизвлечением в зависимости от натянутости. Аристотель считал, что идеально то сообщество, где люди могут сесть за один стол и спеть общую песню — это похоже на кабардинскую свадьбу. Можно ли сесть за один виртуальный стол? Вряд ли… Назвать выпуск книг досугом… Книги идут по диагонали, пересекают территории рабочего времени, досуга, профессионализма, дилетантизма. Это описывает мое занятие хуже, чем фраза Липавского. Книжки можно читать по-разному. Можно очень функционально: ссылаясь на них, критикуя неточности, писать работу. Пользоваться электронным форматом, чтобы не отягощать полки. А можно влюбиться в книгу, даже стать фетишистом. Страшная вещь — но можно! Есть безумные книжные эротоманы. Я знаю людей, которые трогают, нюхают… Знакомый издатель, который продолжает книжную серию «Литпамятники», окружен такими. Фетишисты — его основная клиентура. Люди, начинающие общение с того, что смотрят сквозь книгу на просвет между блоком и корешком: правильно ли сшиты страницы, хорошо ли прилег каптал. Слава богу, такие есть! Противоположным полюсом является электронное юзанье файлов: скачал, лучше — бесплатно, процитировал, скопипастил — о'кей. Случайный секс с книгой. А есть люди, которые бриллиантовые свадьбы празднуют с нею.
— Чем помимо дизайна серьезное издательство URSS отличается от вашего?
— У них, я думаю, тоже есть свой кайф. Не знаю зоны их наслаждения, но наверняка любят не только деньги — иначе работали бы в финансовом секторе. Они любят и свой странный дизайн, и бумагу плохого качества. В этом что-то есть. Бесконечные переиздания… Я нигде больше не мог купить «Философию математики»-4 — а они сделали переиздание. Когда вы видите бесконечные ряды репринтов научных книг, плохо изданных… Надо на них настроиться. По внешнему наблюдению это мне не слишком близко — но почему нет?!
— Исчезновение книжных магазинов, слияние с клубом-театром-кафе плюс распространение Амазона будут идти одновременно?
— Амазон, Гугл — очень опасные вещи. Они ведут к унификации, самовоспроизведению форм, которые мы привыкли считать нашими — и которые вдруг экстерриторизируются через линейку заказов. Гугл зеркалит индивидуальные запросы, предлагает соответствующую рекламу, останавливает открытие новых зон — и уничтожает книжную торговлю. Начинают действовать так: заходите в магазин, смотрите тома, листаете — приходите домой и заказываете на Амазоне. Можете даже юзанную книгу за десятую долю цены. Что можно противопоставить? Микроэлементы консервативной эволюции. Есть зоны, где не работает интернет, — очень крутые. Зоны, свободные от интернета. Где можно наслаждаться физическим, трехмерным свойством любого предмета. Потом появляется новый тип магазинов: главное, чем он соревнуется с Амазоном, — нетипичный рубрикатор. Амазон очень формализует поиск — а традиционная книжная торговля в небольших магазинах связана с тем, что вы находите книгу неожиданным, чудесным образом, в странном месте. Чем страннее рубрикатор, тем интереснее. Есть прекрасный берлинский Pro QM 5, где рубрикатор построен вокруг блуждающего центра внимания: то им становится теория, то визуальная часть.
— В смысле? Есть помещение, оно у магазина постоянно.
— Есть хитрости мерчандайзинга: разместить товар на уровне глаз или в прикассовой зоне. Там совершаются спонтанные покупки. Тележку набили, ждете в очереди — «О, петушок на палочке!» Он не нужен — но автоматически кладете. Берлинский магазин посвящен разным визуальным практикам: от архитектуры до современного искусства, от дизайна до классического и новейшего кинематографа. Любая теория начинает в нем восприниматься как теория того или иного вида визуального опыта. Есть раздел, посвященный урбанизму, психогеографии. Большая часть полок посвящена маленьким издательствам и проектам, выпускающим две-три книги в год: очень малотиражные, крошечные, на грани брошюр, книги. В Венеции есть либрерия «Марко Поло», где собраны наиболее яркие независимые издательства Италии. Даже «Адельфи» знаменитое, с человечком в лодочке на обложке, считается недостаточно независимым, чтобы появиться там.
— Вы можете представить себе читателя ваших книг?
— Несколько лет назад встретился на улице с Ильей Ценципером, одним из основателей «Афиши», зашли выпить кофе. Он: «Я думаю только о ней. Ей 33, очень успешна в бизнесе, у нее ребенок — колеблется, разводиться ли с мужем. Новый журнал придумываю, нужно начать с образа его читательницы». У нас такого нет. Я боюсь очень сильного профессионализма в своем деле — но нужно понимать: издавать книги, которые тебе не нравятся, нельзя. Нужно искать баланс между тем, что нравится тебе, — и тем, что может понравиться еще хотя бы одному человеку. Все время балансируешь — иначе придется издавать только розовые обложки. В Вене есть магазин при одном из музеев, где всего две полки: на одной — только зеленые книжки, на другой — только желтые.
— Вы бы так не хотели?
— Не представляю, как такое издавать. Правда, есть жанр видеоблогерш, девочек, почти тинейджеров, которые записывают видеоблоги с собственной, очень странной, аналитикой чтения. Некоторые наши книги у них популярны, потому что в их обложках использован розовый цвет.
 © «Ad Marginem»
© «Ad Marginem» — На вашем сайте помечено, что вышла книга стихов Пессоа. Почему вы выпускаете так мало стихов?
— Очень боюсь погружаться в мир современного русского литпроцесса: очень не нравятся его ритуалы. Ритуалы премий, журнальных журфиксов, поэтических сайтов — раздача званий, деление на влиятельных поэтов или прозаиков, раздача погон, иерархия, важность. Неприятно стремление устанавливать правила силового литературоведения. Того, что настаивает на четком понимании важного/неважного. Современная литература очень страдает от таких обычаев. Иногда есть желание издать прозу или даже поэзию, но попадаешь на вручение премии — там просто ужасно. Сама атмосфера, литературные дамы, серьезные критики… Не просто поэты, а саморепрезентирующиеся поэты, с жестом, с забрасыванием волос назад, с подвывающим интонированием. Это все ужасно. Очень древние формы репрезентации творческих личностей — кажется, современный поэт или художник не должен внешне выделяться. Было бы прекрасно.
— Почему поэт не должен выделяться?
— Если бы не выделялся так утрированно, можно было бы включать искусство маленьких различий. Мелких. Миниатюрнейших. А не больших. Когда вижу/читаю поэта, который на поэта прямо похож, — приходится находиться в зоне больших различий: поэт — не поэт. Поэт — прозаик. Наш — не наш. Свой — чужой. Люди с прекрасными лицами — люди с отвратительными рожами. Я люблю маленькие различия: тяжелые мочки ушей…
— Вы подмечаете?
— Все подмечают.
— Если только очень тяжелые!
— О'кей, среднетяжелые. Или специфическое движение, интонирование слова — куча маленьких, почти невидимых, различий.
— Вы постоянно говорите о визуальном. Почему этот поворот происходит?
— В силу того, что компьютерный мир синхронизирует, опространствливает то, что раньше отдавалось темпоральным различиям. На одном экране мы можем представить — в разных окнах — разновременные, рассинхронизированные виды реальности. И это тотальное экранирование настраивает на большее внимание к пространственным, нежели временным, различениям, связанным с классическим модернизмом и теми, кто остро ощущает новизну и остро реагирует на устаревание. Что такое люди нового? Те, кто каждый день хоронит несколько десятков устаревших вещей. «Что за музыку вы слушаете? Она же давно устарела!» «Вы это читаете? Да это три года как устарело!» То есть оно три года как умерло, а вы продолжаете.
— Вы тоже в темном!
— В России живем, сумрачное время года наступает. Все же не совсем в черном. Хотелось бы большего внимания к пространству — надо отстранять в себе классические виды темпоральных переживаний, которые приходят из литературы: меланхолия, ностальгия. Они связаны с темпоральным различением и доминированием проблематики времени, субъективности. Размышление о том, что наша страна живет без будущего, — темпоральное, слишком интеллигентское, непрактичное размышление. Оно не может претендовать на эмоциональное доминирование.
— Но ведь время идет. Почему бы о нем не подумать?
— Органично думать не в понятиях линейного времени, а сезонами. Осень: время собирать грибы, больше сидеть дома, общаться. Открыть банку с вареньем, выпить с ним чаю, как советовал Розанов. Сменить одежду. Зима — достанем коньки, потеряем или найдем старые варежки. Сезонность невероятно важна. Можно напряженно думать о том, что у страны нет будущего, — но это не отменяет мыслей о том, куда делись лыжные ботинки, что делать со старым вареньем… Сезонность жизни более важна, чем те темпоральные валуны, которыми мы пытаемся забить себе и другим мозг.
— Каков спектр эмоций, которые у вас вызывают книги?
— Часто не замечаю уже. Самые разные — скорее, связанные с давно знакомыми, близкими обстоятельствами жизни. В Цюрихе, почти не зная немецкого, попал в букинистический магазин — но воспринял атмосферу очень изысканного набора и рассортировки книг по залу. Не древних фолиантов — но золотого века от «Кабаре Вольтер» до конца 40-х годов: литературные альманахи, тоненькие сборнички поэзии того времени, первые издания эмигрантов. Большинство изданий покрыто специально сделанной суперобложечкой из кальки, прозрачной. Особо ценные, с автографами, — в шкафу. Обычно в таких магазинах почти не бывает людей — но с ними связана атмосфера по-настоящему городской жизни, эссенция ее. Если любить жизнь городскую — не буколическую, которую тоже люблю, — то у нее есть свои запахи и своя физичность. Старого клея книжного, переплета, старого дерева, книжной пыли, кошачьей мочи в подъездах — все это важно. Книги — в том же регистре. Есть шикарные поп-издания, которые хотят нравиться, нравиться всем, — передизайнированные книжки, полные ярких порнообразов — не обязательно речь об обнаженных телах. Это могут быть книги о кулинарии, где суперобложка — капелька росы на листе свежесрезанного салата. Мне нравятся более безобидные твари, домашние собаки и коты. Но есть и кричаще-эффектные животные.
— В других людях какие эмоции вы хотите вызвать книжками?
— В эту минуту нашего разговора я настроен на рациональный, просвещенческий лад. Просто хочу коммуницировать, ничего специально не вызывая и не загадывая.
Понравился материал? Помоги сайту!
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202424769 В разлуке
В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым
22 ноября 202423234 В разлуке
В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах
14 октября 202426187 В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается
20 августа 202432172 В разлуке
В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»
9 августа 202432734 В разлуке
В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь
15 июля 202435345 В разлуке
В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым
6 июля 202436067 В разлуке
В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности
18 июня 202441628 В разлуке
В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова
7 июня 202441312 В разлуке
В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»
21 мая 202437061 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials