Дни локальной жизни
«Говорят, что трех девушек из бара, забравшихся по старой памяти на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства». Рассказ Артема Сошникова
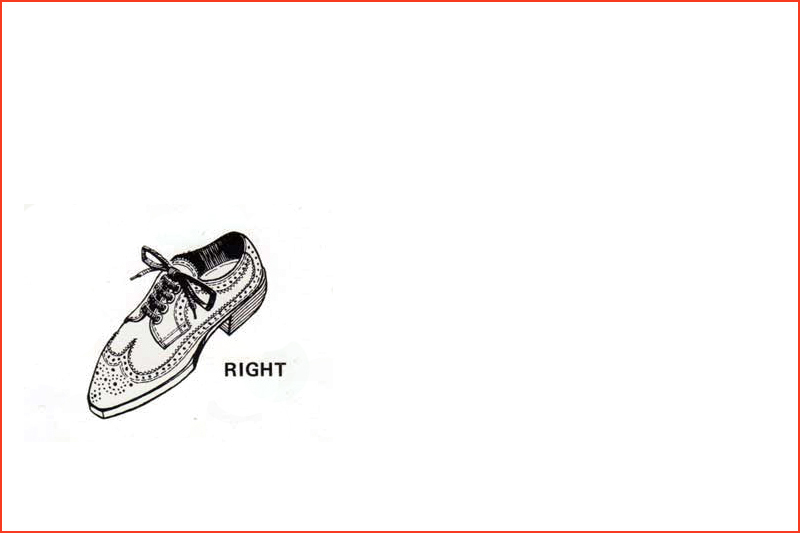 © Colta.ru
© Colta.ruВ конце лета — начале осени мы проводили конкурс «27 сентября 2050 года», где предлагали авторам до 35 подумать о будущем России через три десятилетия.
В разделе «Молодая Россия» мы публиковали и продолжаем публиковать самое удачное из пришедшего на конкурс — получившее призы или нет.
Работы главных призеров, по привычной для конкурсов драматургии, мы опубликуем в самом финале проекта.
Сегодня серию публикаций продолжает рассказ молодого писателя из Санкт-Петербурга Артема Сошникова.
Я выпил рюмочку граппы и бросил взгляд на занавешенное окно.
— Говорят, теперь мальчиков-таджиков забирают в отделения, — заявила моя спутница, ковыряясь соломинкой в остатках глинтвейна.
— С чего бы это?
— Их грязные картонки повсюду, их внешний вид «портит настроение гражданам и плохо влияет на имидж культурной столицы».
Я ничего не ответил, поискал взглядом официантку. Мальчики, отделение... Кто ж теперь будет чистить ментам их ботинки за маленькую картошку фри из Макдака?
Мы заказали два белых портвейна и вегетарианский борщ, моя спутница попросила принести пепельницу. Официант включил над нами вытяжку и положил на стол коробок спичек, но она достала из сумочки зажигалку, прикурила и тут же прикрыла ее салфеткой. Я напрягся. Зажигалки запретили пару месяцев назад. Зайди сюда сейчас дружинники, штрафа было бы не избежать.
После Нового года жизнь стала иной — главенство Рода смешалось в ней с изувеченной формой гуманизма. Мою семью опекали и лелеяли, мое здоровье объявили ценностью для государства. Когда я размышлял об этом перед сном, мне нестерпимо хотелось выпить, и я звонил ей с предложением отправиться в бар на Невском, замаскированный под литературное кафе. Говорят, что трех девушек из бара напротив, забравшихся, по старой памяти, на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства, где они, роняя на пол слезы раскаяния, учатся пеленать отказников.
Мальчики-чистильщики. Отделения... Грязный картон, который часто уносило ветром, постоянно попадал мне под ноги, и я вскрикивал, пытаясь удержаться на ногах и не привлечь к себе внимание блюстителей порядка. Когда сошел за пьяного, доказать обратное сложно, даже если не пил ни капли. Моя спутница хватала меня под локоть, и мы скользили по наледи, выясняя, кто же из нас уязвимее — я в своих растоптанных найках или она в ботильонах на высоком каблуке. Чаще всего она побеждала.
Каждое утро на улице пели гимны царям, князьям и созидателям — я разлеплял глаза, поднимался и искал на кухне банку кофе, которую никак не мог поставить на отведенное ей место. Заварив горячий напиток, я обжигал горло и представлял себе, как сужаются мои сосуды, портятся зубы и обезвоживается организм, и никак не мог понять, что ужаснее — неминуемое наступление болезненной старости или моя осведомленность о вреде кофе.
А если не юлить: я пил бы капучино литрами, но они талдычили нам с экранов о вреде кофеина, сравнивали его с наркотиками, что странным образом на меня повлияло, и с тех пор я обходился одной кружкой в день. Формально кофе не запрещали, но над каждым «не» висело многозначительное «пока». Мальчики-таджики стали первыми ласточками. Никто не почистит нам теперь ботинки, не забудет картонки на перекрестках. Все ходят в грязной обуви, и лед сошел — случайно не поскользнешься.
Как бы мне хотелось разобраться во всех этих правилах! Моя спутница, кажется, уже освоилась, чувствует себя как рыба в воде. Она убеждает меня, что тяжелых нарушений немного: нельзя вести себя распутно, легкомысленно относиться к Природе и забывать свой Род... и что-то еще, я уточню у нее, когда мы увидимся.
Представляете, они пишут «Природа» и «Род» с большой буквы, что хорошего можно от них ожидать?
Мы договорились встретиться у литературного кафе, которое пока не трогают. Поговаривают, что оно принадлежит тем же людям, что заботятся о нашей нравственности, но мне-то какая разница? Мне нравится выпивать здесь и прятаться с ней у занавешенного окошка, где столик зажат двумя стеллажами с русской классикой.
Мы договаривались встретиться у входа, но она не пришла, хотя я ждал ее больше часа. Измаявшийся, почти привыкший к ее опозданиям, я оперся о стену и старался оставаться невозмутимым, хоть это и было сложно — особенно когда мимо проходили дружинники и осматривали меня с головы до пят, подозрительно косились на бейсболку и оверсайз-пуховик, на джинсы, на окропленные грязью кроссовки. Кроссовки вызывали меньше всего подозрений. Все знали: некому больше чистить нашу обувь, никто не займет место чумазых мальчишек из Средней Азии — ни бомжи, ни беспризорники. Да и где бомжи? Их увезли в реабилитационные центры.
Что ж, она не пришла и не брала трубку. Бармен не дал позвонить со своего номера, и я ушел ни с чем — нет, с горькой новостью, что она приходила в кафе днем с каким-то мужчиной, он угощал ее рислингом и протягивал зажигалку, не скрываясь.
Я шел, страдал и злился на какие-то мелочи — взяли и заклеили весь город афишами, обыгрывают скоропись и устав… Прошла всего пара недель, и вот моя спутница снова стала ветреной, хоть и обещала любить — пусть пьяной — люди не меняются.
Дома было холодно. Я включал отопление только ночами, потому что плату за воду и электричество довели до европейских тарифов. Я накинул куртку и сидел, не открывая ноутбука. Через час батареи нагрелись, и я понемногу успокоился. Созрела мысль, что не так уж она и хороша, я найду себе кого-нибудь получше. Даже если и не приглянусь всем этим девушкам в платьях, с каре или кудрями до плеч, что читают монотонные стихи в нашем кафе воскресными вечерами, то брошу пить, пойду на бокс или боевое самбо, познакомлюсь на Масленице с какой-нибудь румяной девкой, да чтоб с большими грудями, которыми она будет кормить наполовину наших, наполовину государственных детей. А она мне не подходит, я это понял сразу, хоть и боялся признаться. Мы сидели в кинотеатре, и она весь сеанс громко расспрашивала меня о всякой ерунде. Я же ненавижу разговорчивые парочки в кинотеатрах! Так почему все эти дни я притворялся, будто мне хорошо?
Я снова спал до обеда, мне ничего не снилось, и никуда не было нужно, я не работаю — менеджерам вроде меня обещали подыскать новую профессию и платили велфер, а какую профессию подыщут — не сообщали, телефон молчал уже три недели. Я скучал, но пособие позволяло жить праздно. Может, я и связался с ней от скуки?
Я позавтракал в лапшичной, где в рамен добавляли слишком много соевого соуса. Я не люблю вкуса сои, но почему-то все равно хожу сюда пару раз в неделю. Наверное, из-за атмосферы — здесь разрешают чавкать и даже выдают резиновые фартуки тем, кто боится запачкать костюм. Сегодня я впервые взял у бармена фартук — на улице потеплело, и я надел под пуховик новую фланелевую рубашку.
Солнце разыгралось, и день притворялся выходным, по витринам скакали солнечные зайчики, и водосточные трубы роняли капли на выцветший за зиму асфальт. Я хотел прогуляться прямиком до Дворцовой, но так и не выбрался с Петроградки, потому что правительство развело все мосты — зачем, для чего? Мужик у «Бургер Кинга» рассказал молодой паре, что наступили Недели локальной жизни, но не объяснил, что это такое. Я пошел есть мороженое и смотреть на разведенный мост. У Дома политкаторжан какой-то нервный человек в приталенном костюме ругал по телефону идиотов из Министерства труда, которые «разведя мосты, развели собственных граждан». На лавочке сидела студентка, и я, обычно стеснительный и мрачный перед женщинами, неожиданно легко спросил ее:
— Ты не знаешь, почему разводят мосты?
И девушка рассказала мне, что Министерство труда пропагандирует формирование локальных сообществ. Скоро все мы будем учиться, работать и отдыхать на своем районе, исчезнут пробки, и у нас появится больше времени. Недели локальной жизни помогают сформировать тесные связи, перестроить жизнь, а сама она ждет каких-то парней, которые переправляют людей на другой берег нелегально. Девушка спросила, куда я еду, и предложила разделить катер на четверых. Мне показалось, что девушка говорила со мной как со взрослым дядей. Я отказался от поездки и пошел в сторону дома. И никуда больше не выходил три или четыре дня.
Она соскучилась к пятнице, написала, что ради меня приплывет вечером на Петроградку и мы пойдем в кафе на тематическую вечеринку, где по-хорошему должны читать всякие рассказы, а по-плохому — разливать любимые коктейли писателей в фарфоровые чайники.
Она попросила меня «притвориться прозой Набокова», так что я надел фиалковую рубашку, черные брюки и натер шею дешевым одеколоном «Сирень», оставшимся еще от деда.
Я встретил ее на набережной в обиженно-равнодушном настроении. Она не извинилась, сказала лишь, что ее подташнивает от моего внешнего вида, а я ответил: так и задумано, ты же читала Набокова, сейчас мы будто на карусели. Она не оценила шутки, заставила купить жетон в общественный душ, где я долго оттирал шею мылом и намочил половину рубашки. После она выбрала итальянский ресторан, в котором заметила: несмотря на головокружение, проза Набокова гениальна, а я нет, поэтому сирень, фиалки и запонки-бабочки смотрятся на мне пошло. Я не занимался никаким творчеством, жил себе и жил, любил старые фильмы, совсем не претендовал на гениальность и не возразил ей.
Она много съела, будто на тот берег не возили еды, я расплатился. Меня тянуло спросить про того мужчину, но тут я подумал: если бы не она, я весь месяц торчал бы в квартире и сошел бы с ума, двинулся бы на какой-нибудь одержимой идее: допустим, начал бы есть только холодную пищу или поверил бы тренерам по саморазвитию. А так мы гуляем по району и угадываем людей, которые окажутся на вечеринке вместе с нами.
На вечеринку пускали исключительно по спискам. Моя спутница назвала какую-то фамилию, и нас без лишних вопросов проводили до столика на двоих. Она жаловалась, что не отличает бунинский напиток от набоковского, я ответил, что в них совсем не чувствуется алкоголя. Я пошутил: «Когда уже нам подадут горячий шаламовский кипяток?» — и она пристыдила меня, попросила не портить ей настроение. Большую часть времени я молчал, потому что не решался поговорить с ней о главном, и она заскучала, тыкалась в телефон, а когда начались танцы, ушла с кем-то поздороваться, и я ее больше не видел. Сначала я долго сидел и боролся с желанием уйти, потом побродил среди танцующих людей, не увидел ее и засобирался домой. Подумал еще: как хорошо, что мне не нужно сейчас никуда плыть, дом в десяти минутах ходьбы и круглосуточный магазин за углом, куплю себе яблочную HQD-шку. Проходя мимо барной стойки, я все же решил выпить напоследок чего-нибудь крепкого, попросил джина, и тот же самый бармен, что и в прошлый раз, ехидно произнес:
— Заливаешь неудачу? Опять тебя обставил этот мужик! Уехал с ней полчаса назад!
И он добавил, что готов спорить на половину чаевых — у мужика персональная лодка с водителем, и стоит она не у Тучкова моста, а прямо здесь, за углом, чуть подальше телебашни, у давным-давно пустующего причала.
Я, кажется, ничего ему не заплатил. И в магазин расхотелось, курить расхотелось, пришел домой и выпил сирдалуд, чтобы уснуть.
Я проснулся через пару часов, я задыхался. Я вспомнил, что сирдалуд нельзя мешать с алкоголем. Раскалывалась голова, меня тошнило, ноги обмякли, и я представил, как глупо бы все закончилось, умри я этой ночью. Она бы подумала, что я отравился. Бармен с удовольствием прочел бы новость: двадцатипятилетний житель Петроградского района покончил с собой из-за неразделенной любви. Бармен кивал бы в ее сторону и бормотал людям за стойкой: «Роковая женщина. Бегал за ней тут один бедолага, а она изменяла ему вон с тем богачом. И как-то раз… Я был последним, кто с ним разговаривал, представляете?».
Мне полегчало только к утру, и я дремал весь день напролет. Когда она позвонила в видеодомофон, по телевизору показывали «Александра Невского». Я не хотел открывать, но она была очень настойчива, домофон пищал, и мне даже постучали в стену соседи. Она зашла будто бы к себе домой и тут же вспомнила похожую сцену из «Фиесты» Хемингуэя, обозвала меня Джейком Барнсом, обогнула кухню и стала искать вино. Я сидел к ней спиной, сжимал ладонями подлокотники кресла, пытался отдать дереву свой гнев — иначе вцепился бы ей пальцами в горло. Не смей называть меня Барнсом, потому что я прекрасно помню этот роман, Барнс был в нем импотентом, а я не импотент! Если я захочу и распахну двери, девки будут водить здесь хороводы! Пока свахи делят город чуть ли не с автоматами в руках, мне не нужны свахи, я сам себе сваха, но я отчего-то таскаюсь за тобой, хотя таскаться — твое хобби!
И ничего из этого я ей не сказал, держался за подлокотники до тех пор, пока не успокоился. Я предложил ей уйти, потому что не вижу смысла говорить о чем-то, потому что не вытерплю нового вранья. Неожиданно она притихла, начала извиняться, а когда я указал ей на дверь, она прильнула ко мне и стала гладить мне щеки и плечи, я отталкивал ее, она не уходила, и я сдался, конечно же. А кто бы не сдался?
Дура, ушла утром, а я оделся во что попало и побежал следом. Я проследил за ней до очередного дома, в который она нырнула, закидывая сумочку на длинном ремешке себе за талию. Я не пошел внутрь, не стал устраивать сцен, я наврал вам — вчера, уходя от ехидного бармена, я узнал, как звали богатого мужчину. Его звали Алексей Меликаев. Я позвонил куда нужно, рассказал про их аморальную жизнь и через два дня прочел, что их поймали в служебной квартире, нашли там наркотики, алкоголь, порно и зажигалки, увезли обоих в тюрьму. Теперь они сядут, и никто не выйдет в защиту этого Меликаева на митинги. За него выходили, когда он боролся с преступной властью, но теперь он сам — преступная власть.
Я решил отметить окончание этой идиотской истории, долго сидел в пиццерии, где мы познакомились с ней первый раз, жевал кватро карне и запивал приторным клюквенным морсом. Несколько раз я ходил в туалет и вливал в себя мизинчики коньяка. Когда я вышел из пиццерии, на улице уже стемнело. В кармане загудел телефон. Она прислала мне селфи, где они стояли, обнявшись. Она прижималась к его щеке, он ехидно улыбался, а за намытой до блеска витриной сидел я и жевал остывшую пиццу.
В этот момент кто-то крикнул: «Мужчина!» — и я сразу же побежал, потому что никто до этого ни разу не называл меня мужчиной да и от двух жлобов в кожаных куртках не стоило ожидать ничего хорошего. Я побежал в сторону метро, и третий преследователь, карауливший на набережной, бросился мне наперерез, а я увернулся и сам поразился своей пьяной ловкости. С набережной я юркнул на Аптекарский проспект, пробежал мимо телебашни, но у ресторана, где до переворота танцевали депутаты под песни Шнура, под ноги мне бросилась одинокая картонка, которую дворник не заметил среди облысевших за зиму кустов. Картонка шаркнула по асфальту, нога рванула вверх — я завис на доли секунды — и рухнул вниз.
В ушах засвистело, резкая боль бросилась от затылка ко лбу. Меня выбило из тела, я повис над отлетевшей к поребрику картонкой. Трое мужчин в кожанках смотрели моему телу в глаза, трясли его за плечо, тыкали в лицо бордовым удостоверением и между делом выворачивали карманы, находили там мизинчики коньяка и какие-то кульки, до этого мне не принадлежавшие.
Я хотел было позвать на помощь, повернулся к ресторану и увидел толстяка. Он перестал жевать стейк и таращился на происходящее. Я понял, что не могу говорить, что говорить нужно через тело, которое мне не отвечает. Мир выцветал, толстяк показывал спутнице на меня пальцем, и тут я наконец-то понял: так вот почему.
Вот почему люди так любят садиться в ресторанах прямо у открытых витрин.
Автор
Артем Сошников

Возраст: 31 год
Город: Санкт-Петербург
Род занятий: литературный обозреватель, студент литературной мастерской Дмитрия Орехова
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости