Говорит художник
Андрей Шенталь — о лекциях-перформансах в трудовой теории культуры
 Александр Синх. Assembly instruction lectures© International residences at Récollets
Александр Синх. Assembly instruction lectures© International residences at RécolletsЗа исключением внешнего сходства благородный гриб не имеет ничего общего со своим ложным «двойником». И хотя общий биоценоз или одинаковый состав почвы, где произрастают два представителя различных семейств, может сделать схожими их окраски, ядовитый гриб не становится от этого съедобным. Так же и популярные сегодня перформативные лекции художников вопреки бытующему о них представлению не являются формой нематериального труда — хотя они и сосуществуют в эпоху постиндустриального капитализма и имеют внешнее сходство. В этом тексте я покажу, как можно различить эти два явления с помощью трудовой теории культуры, что может прояснить отношения современного искусства и труда в целом.
Исторически искусство последовательно ставило вопрос о статусе художественного труда: оно говорило о труде, содержащемся в или необходимом для изготовления произведения. Указывая на такой труд, художники смещали ракурс с потребления искусства на процесс его производства. Это делали дадаисты и советские производственники, Марсель Дюшан и Энди Уорхол, эту традицию продолжили Шерри Ливайн и Сантьяго Сьерра. Однако обсуждение отношений труда и искусства нередко приводило критиков к пониманию искусства как труда или же труда как искусства. Подобное отождествление стало популярным в середине 2000-х годов благодаря текстам Саймона Шейха, Паскаля Гилена, Стефано Харни, Дидриха Дидерихсена, Марины Вишмидт и других теоретиков искусства. Все эти авторы подчеркивали гомологию между нематериальными формами труда и художественными практиками. Если пиком этих обсуждений стал симпозиум «Искусство и нематериальный труд» (Тейт, 2008), то в конце нулевых они стали носить все более популистский характер. Например, таковы были конференция «Работа, работа, работа» в IAPSIS (2010) или серия публикаций на сайте e-flux в том же году. Вскоре дискуссия и вовсе себя исчерпала, подтверждением чему стала конференция «Без названия (Труд)», прошедшая в Тейт в 2012 году и некритично повторявшая все уже сказанное. Сегодня, по едкому замечанию одного критика, в любом музейном магазине вы можете приобрести книгу, где привлекательным образом описывается полное подчинение искусства капиталу и провозглашается, что «зомби нематериального труда» могут «подорвать» или же «саботировать» саму капиталистическую систему.
Деятельность художника стали уподоблять длящемуся во времени исполнению партитуры.
Интерес к искусству как труду среди теоретиков искусства был связан с модой на тексты итальянских теоретиков-постопераистов: Маурицио Лаззарато, Паоло Вирно, Кристиана Марацци, Антонио Негри — которые сумели протащить лингвистический поворот в сферу политической экономии. Согласно их теориям, в ходе деиндустриализации развитых стран отказ от конвейерного производства привел к появлению новой сервисной и когнитивной экономики, которая активно задействует в производстве информационные технологии и человеческую коммуникацию. В результате чего, по их мнению, во второй половине XX века с переходом от фордизма к постфордизму сам труд уподобился лингвистическим процедурам, а производство структурировалось подобно языку. Критики, кураторы и художники — то есть образцовые работники новой индустрии аффектов — позаимствовали у постопераистов как минимум два понятия: «нематериальный труд» и «виртуозность». Термином «нематериальный труд» Лаззарато определял труд, задействующий интеллектуальные операции; и теоретиками, и критиками искусства художественный труд стал пониматься как не связанный с материальным производством. «Виртуозность» — понятие, которым Вирно подчеркивал, что коммуникативная и языковая трудовая деятельность не сводится к производству автономного объекта; используя эту концепцию виртуозности, деятельность художника стали уподоблять длящемуся во времени исполнению партитуры.
Параллельно с публикацией переводов постопераистов и их участием в музейных конференциях само искусство пережило дискурсивный поворот: все чаще выставочные проекты стали использовать лекции, дискуссии, круглые столы, семинары не в качестве вспомогательных образовательных инициатив, а как конститутивные художественные или кураторские элементы. Для описания и объяснения этого явления критики предложили различные термины и понятия: «новый институционализм», «производство знания», «образовательный поворот», «дискурсивная выставка» или же «художественная речь». Каждый из этих терминов пытался по-своему осмыслить и легитимировать распространение разговорных практик на территории искусства. Идеи итальянских авторов пришлись здесь как нельзя кстати — благодаря внешнему сходству между новыми формами труда и новыми художественными практиками 2000-х. Популярности постопераизма в сфере искусства способствовала также историческая синхронность перехода от фордистской к постфордистской экономике и так называемой «дематериализации» произведения искусства в концептуализме.
 Гийом Десанж. Singns and Wonders© Paula Court, courtesy of Performa
Гийом Десанж. Singns and Wonders© Paula Court, courtesy of PerformaНапример, теоретик искусства Дидрих Дидерихсен применяет к искусству марксову теорию стоимости, говоря, что прибавочная стоимость образуется за счет изъятия сверхурочного времени, затраченного не только на обучение, но и на общение в барах и на вернисажах. То есть представители мира искусства — не привилегированная элита, а наемные работники, чей лингвистический труд оказывается не полностью оплачен, как и труд рабочих на заводе. Саймон Шейх, сравнивая художественное производство со сферой услуг и менеджмента, уподобляет художника виртуозу, который может не продавать произведения, а зарабатывать своими лекциями (artist talks). По мнению Шейха, это становится возможным, потому что sign value (стоимость, которую приобретает товар из-за своей символической престижности) в рамках искусства становится talk value (стоимостью, образованной за счет обсуждения). Паскаль Гилен дополняет эти рассуждения, указывая на слияние разных видов труда, которое затрагивает также музеи, где образовательные отделы, организующие лекции, объединяются с выставочными. Этим объяснениям нельзя отказать в остроумии, однако стоящая за ними критика самоэксплуатации никак не приближает нас к пониманию процессов, происходящих с современным искусством.
Все эти теории мне видятся проблематичными хотя бы потому, что само по себе спорное понятие нематериального труда, противопоставленного труду материальному, не ставится их авторами под вопрос. Между тем термин «нематериальный труд» учитывает лишь характеристики самого труда, но не вовлеченность его в определенные производственные отношения. Однако марксово различие между производительным и непроизводительным трудом основано на тотальности капиталистических производственных отношений: производительный труд — вне зависимости от того, является он ручным или интеллектуальным, материальным или нематериальным, — понимается Марксом как наемный труд, нацеленный на производство прибавочной стоимости. Поэтому искусство как производство уникальных предметов, ценообразование которых не соответствует логике ценообразования воспроизводимых объектов, не вписывается в понятие производительного труда.
Публичное чтение превращалось в акт откладываемого во времени чревовещания.
По мнению Джона Робертса, автора трудовой теории культуры, то же самое касается даже и не уникальных, а воспроизводимых и копируемых объектов искусства. Робертс полагает, что художественный труд автономен, так как относительно свободен от диктата товарной стоимости. Художник, руководствуясь своей чувственной субъективностью, может заимствовать материалы и техники, свойственные другим видам труда, в том числе производительному труду: яркий этому пример — реди-мейд. Но труд по созданию произведения искусства защищается автономией действий и решений своего автора от полного включения в логику производительного труда. Тем самым Робертс модернизирует идею автономии Теодора Адорно, который настороженно относился к открытости модернизма современным производственно-техническим отношениям, связанным с разделением труда (в частности, он отвергал фотомонтаж, ассамбляж и реди-мейд). Такое расширенное понимание автономии художественного труда предполагает, что художники, используя новые информационные технологии и формы «нематериального» производства, противопоставляют их господствующей конфигурации отношений между техникой, наукой и производственными отношениями. На примере коллажа, где художник использует готовые газетные вырезки, однако совершает над ними манипуляции при помощи своих рук, можно увидеть, как диалектически сплетаются в аргументации Робертса утрата ремесленного мастерства (deskilling) и его обретение в новых условиях (reskilling).
 Гийом Десанж. History of the performance in 20 minutes© Courtesy Guillaume Désanges
Гийом Десанж. History of the performance in 20 minutes© Courtesy Guillaume DésangesМежду тем в теориях искусства, некритически заимствующих элементы теорий постопераистов, есть и другая проблема, которая касается уже именно перформативных лекций. Такие теории не проводят различия между вспомогательной речью и речью художественной, например, между лекцией художника (artist talk) и перформативной инсценировкой, между автономным произведением искусства и социальными техниками производства его автономности. Другими словами, критики, утверждающие тождество произведения искусства и труда, забывают про принципиально двойственный характер искусства, сочетающего в себе автономию и «социальный факт» (fait social). Искусство не может быть сведено к производственным отношениям или к своему базису, потому что оно внутренне структурируется диалектическими отношениями между автономными и социально детерминированными элементами. Потому поглощение искусства культурной индустрией, которым нас регулярно устрашают наиболее пессимистично настроенные критики, может лишь усилить значение социальной детерминации, но не может полностью отменить имманентные искусству законы. Например, в ходе дискурсивного поворота перформативные лекции — как и фильмы-эссе и исследовательские проекты — стали не только более распространенным, но и качественно новым явлением. Такие художники, как Хито Штейерль, Уриель Орлов, Марк Леки, Кьяра Фумаи, Гийом Десанж, Валид Раад, Раби Мруэ, Александр Синх, стали инсценировать и обыгрывать контекст академических лекций, то есть интеллектуальный труд, но всегда подрывали его чисто художественными элементами.
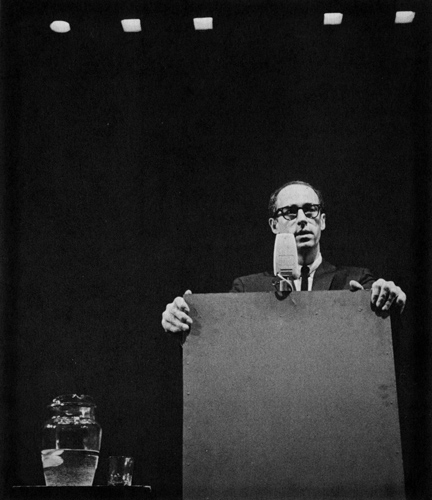 Роберт Моррис. 21.3© © ARS, NY and DACS, London 2013. Courtesy the artist and Sprüth Magers, London; Leo Castelli Gallery, New York; and Sonnabend, New York
Роберт Моррис. 21.3© © ARS, NY and DACS, London 2013. Courtesy the artist and Sprüth Magers, London; Leo Castelli Gallery, New York; and Sonnabend, New YorkЧтобы разобраться в том, что такое перформативная лекция, и отличить ее от форм нематериального труда, мы должны читать искусство генеалогически и онтологически. Лекции-перформансы ведут свою историческую генеалогию из перформанса и концептуального искусства 1960-х годов. Перформативной лекцией avant la lettre можно назвать легендарную работу Роберта Морриса «21.3» (1964), где художник, заранее записав на диктофон известную лекцию Эрвина Панофского, имитировал ее прочтение в реальном времени, периодически выдавая «неаутентичность» исполнения при помощи рассинхрона. На протяжении двадцати минут Моррис, изображая историка искусства, пытался воспроизвести своими органами речи запись слов на фонограмме, внимательно следуя сценарию, где были прописаны все его телодвижения вплоть до взгляда, выражения лица, шагов, движений рук и ног. Все это призывало зрителей сосредоточиться исключительно на чтении истории искусства как процессе явления и развертывания истины в настоящем времени. Однако задержки речи и записи звуков подрывали аутентичность этого события, превращая публичное чтение в акт откладываемого во времени чревовещания.
Эта и другие перформативные лекции воспроизводят или же инсценируют давний конфликт, присущий искусству. Модернистская чувствительность была основана на вытеснении речи, которую заменяло письмо (критика, историка, философа, теоретика, куратора). Это вытеснение речи было как институциональным (в музеях следовало смотреть, а не обсуждать), так и онтологическим (искусство описывалось через фигуру молчания). При этом письмо восполняло «голос» «немого» объекта — и, таким образом, голос оказывался захвачен институтом интерпретации. Лекции-перформансы, обыгрывающие институциональный контекст собственного производства, драматизируют эти диалектические отношения. Их логика строится на противопоставлении «письма» (в случае Морриса — текста историка искусства) и «речи» (живого выступления), понятых также и онтологически как две модальности бытия — присутствие и неприсутствие (как их понимал, например, Жак Деррида [1]). Модернистские критики апеллировали к явленности произведения, к его присутствию здесь и сейчас, к его самотождественности и открытости человеческому сознанию, но могли это сделать лишь через систему уловок — например, прибегая к метафоре говорящей картины. Лекция-перформанс «снимает» этот конфликт через буквальное появление на сцене говорящего субъекта.
 Кьяра Фумаи. Chiara Fumai Reads Valerie Solanas© Courtesy of Miart
Кьяра Фумаи. Chiara Fumai Reads Valerie Solanas© Courtesy of MiartДаже если мы принимаем постфордистские представления о «нематериальном труде», мы должны учитывать внутренние характеристики самих художественных практик — например, перформативных лекций. Используемые художником в таких лекциях формы «нематериального» труда — виртуозная коммуникация, производство знания, социальное взаимодействие, разделение интеллектуального труда (художников, критиков, теоретиков) — собираются вместе посредством фигуры художника. Его или ее телесное и голосовое присутствие оказывается той самой материальной «сделанностью», способом восстановления мастерства (reskilling) в эпоху его дематериализации и утраты (deskilling). Таким образом, автономный художественный труд, задействованный в этих практиках, противопоставляет себя гетерономному производительному труду, не позволяя произведениям подчиниться логике формы стоимости.
Теории операистов, безусловно, заслуживают внимания, и сами эпитеты «нематериальный» и «виртуозный» могут быть продуктивно использованы в рамках критики культуры, но они оказываются проблематичными в их применении к сфере искусства. В ситуации экономического кризиса, массовых сокращений и еще большей прекаризации нестабильных форм заработка, к которым вынуждены обращаться работники этого самого нематериального труда, импорт недиалектичных социальных категорий может показаться соблазнительным критическим и мобилизующим инструментом. Но благодаря этому художественные практики окажутся еще в большей мере субъективированными и подчиненными логике культурной индустрии. Поэтому вместо упрощающего разговора об искусстве как труде уместнее говорить о труде и искусстве.
[1] См. подробнее: Андрей Шенталь. «Голос, который хранит молчание». ХЖ №94



