Дневник июня. Можно жить так, но лучше ускориться
Главный редактор альманаха «Транслит» Павел Арсеньев о своем путешествии по «биоразлагающейся» Европе
 © Павел Арсеньев
© Павел АрсеньевЭтот номер «Разногласий» начинался с текста об одном полюсе современного невротического существования работника постиндустриального труда — полюсе исключения и самоисключения. Заканчиваем мы номер дневником о другом его полюсе: постоянной и изматывающей включенности в трудовые отношения, коммуникацию и самоэксплуатацию.
Начать с того, что ехать никуда не хочется, ну симпозиум, ну поэтический фестиваль, ну биеннале, а здесь вообще-то выпуск журнала не сдан в типографию (в Питере) и выставка не смонтирована (в Москве). Ну что, мы Берлина или современного искусства не видели?
И это распространенный синдром: чем дольше находишься в России, тем сложнее из нее выбраться. Именно поэтому, чтобы не атрофировалась эта способность в принципе, устраиваешь себе такие усложненные задачи — не просто готовить выпуск и выставку одновременно, но еще перемещаться между городами, гостиницами и вписками, монтировать выставочное видео в аэропорту и отсылать pdf в типографию перед check-out из хостела. А в этих самых городах участвовать в каких-то конференциях, тоже конструировать какие-то художественные следы, бывать на каких-то venues, знакомиться и общаться со знакомыми, в общем, непрестанно ускоряться. Но, разумеется, и замедляться, т.е. писать. Постоянно записывать свои впечатления, которые в противном случае в следующий момент будут погребены новыми — или, напротив, новые не смогут лечь, если не избавиться посредством письма от полученных переживаний.
31 мая
Будильник, разумеется, не срабатывает, но сам встаешь как заведенный ровно за два часа до самолета (ты уже давно подозревал, что у тебя сформировался внутренний механизм пробуждения к рейсам) и выбегаешь — попробовать успеть. Доезжаешь до Пулкова как на свое рабочее место и спокойно (если это вообще возможно в таких обстоятельствах) успеваешь за полчаса справиться с объемом письменной работы, на который дома могло уйти полдня. Каким образом? Исходная гипотеза: давление ограниченного времени, после которого интернета не будет почти целый день. Но есть и другая.
То, что нужно успеть сделать до посадки: анонсировать выпуск журнала — на тот случай, если не продлят краудфандинг и на него останется только 15 часов. Уже на борту берусь набросать пару писем с телефона (поскольку на них все равно придется отвечать, а когда еще найти время, непонятно) и обнаруживаю какую-то неожиданную прыть и техническую изобретательность, что приводит ко второй гипотезе о ее происхождении — связанной с самим рабочим местом. Когда какие-то из дел вязнут при всем, казалось бы, сильном желании их делать, необходимо не дополнительное время (оно будет потрачено впустую), но новое дополнительное пространство. Переместившись в него, удастся по-новому распоряжаться временем. То есть необходимо совсем немного прибавочного времени, но используемого иначе — в иной ситуации, в которой все иллюзорные препятствия к работе рассыпаются, а тормозящие контексты обрываются.
В Шёнефельде, разумеется, интернет не подключить, так что о судьбе краудфандинговой кампании ничего не узнать. Меня встречает румяный рослый немец и везет несколько часов в Веймар, за которые мы не обмениваемся ни словом, потому что сначала я был занят записями, затем — сном.
В отеле благодаря очередной смене места удается ответить еще на пару мейлов и даже затеять цепочку переписки самому (чего обычно избегаю). Наконец выхожу перекусить. Проходя мимо анархистского сквота (надписи «Zona antifachista», «Refugees welcome» и т.д.), нахожу его расположение (прямо напротив городского замка) несколько нарочитым, или, что то же самое, квотированным. Сразу за сквотом следует мемориальный домик умученной еврейской семьи. Сквот и домик вместе как бы образуют фрагмент экспозиции об исправленных политических ошибках и толерантности. Именно они, а не развалина напротив — цитадель сегодняшней городской европейской культуры.
1 июня
Но эти закругленные культурные впечатления возможны и артикулируемы, только пока не начинается сам симпозиум, из-за которого я прилетел. Пытаясь за завтраком успеть анонсировать материалы для поддержания на плаву краудфандинга и борясь с обрушением редакционной работы, ловишь на себе взгляды недоумевающих командировочных или отдыхающих, чья занятость носит более нормированный характер и кому твое поведение кажется неуместным. А еще надо начать разбираться с самой программой симпозиума. Из-за этого чуть не пропускаю одно из наиболее релевантных мероприятий сегодня (или из-за этого риска оно становится для меня таковым?) — прогулку по местам Баухауза. Когда спохватываюсь и выбегаю из отеля, она уже ушла. Чудом встречаю странненькую группу у одного из корпусов Bauhaus University — оказывается, та самая. Мгновенно воспрянув от такой удачи, мой слух и внимание обостряются, и дальше я слышу не просто экскурсию, а готовое стихотворение:
Ready-made slaps of concrete
And that's why no one wants to live in it now
GDR forgot the gardens
So only poor people live here
They took all our money and machines
And all the managing centers moved to the west
So that's why they say our productivity is lower
Bauhaus professor lived in this house
Being accused as a communist spy,
Committed a suicide
But nobody cares about Nazi background
Already after 10 years after the war
(and nobody published the list of western spies)
Готовые блоки бетона
И вот почему никто не хочет здесь сейчас жить
ГДР забыла о садиках
Так что только бедные живут тут
Они взяли все наши деньги и машины
И все менеджерские центры переехали на запад
Так вот почему они говорят, что наша производительность ниже
Профессор Баухауза жил в этом доме
Его обвиняли в том, что он шпион коммунистов
И он покончил с собой
Но никто не тревожился по поводу нацистского прошлого
Уже через 10 лет после войны
(и никто не публиковал списков западных шпионов)
Наконец речь заводит экскурсовода в 1989 год, который, по его мнению, был единственной успешной народной революцией, но он затрудняется объяснить, к чему именно произошел поворот, и признается, что сегодняшнее неравенство намного серьезнее, чем в ГДР, а бюрократии не меньше. Наконец рассказывает пару баек о том, как американцы удивились тому, как немцы могли начать Вторую мировую войну, имея такие красивые дома, чем окончательно являет для меня эклектичное сознание «восточного немца», в котором сочетаются гордость ГДР и выстраданный критицизм к Западу с бюргерской нежностью к своему домику и участку земли.
Попуститься с работой, закрыть компьютер, взять в руки карандаш и… взяться за другую работу.
По дороге на торжественное открытие симпозиума на ходу просматриваю статью, чтобы выбрать фрагмент для анонсирования (уже поняв, что в ближайшие дни мне придется работать именно в таком режиме), а на самом пленарном заседании обновляю редакционный блог. Опубликовав какую-то фотокарточку, мне удается немного попуститься с работой (рекомендую этот метод), закрыть компьютер, взять в руки карандаш и… взяться за другую работу.
Симпозиум озаглавлен Sharing & Exchange и посвящен, согласно своему названию, тому, чем можно делиться и обмениваться. Фундаментальный вопрос sharing economy — является ли ее причиной дефицит, из-за которого приходится делиться, или изобилие благ, которыми мы тем самым можем поделиться. Участники симпозиума склоняются к тому, что требование делиться вообще идет от экологии, а не идеологии (как будто природа не опосредуется знаками и не становится политической ставкой).
После открытия надо выбирать, идти на лекцию философа Джереми Рифкина или на некий Barther Theater. Выбираю театр (раз не могу заняться редактурой выпуска о нем), нас ведут в студенческое общежитие, где нас ждут настоящие шлеммеровские лестницы и студентка public art из Израиля, готовая показать свою комнату и провести на кухню (все студенческие общежития одинаковы), где и разворачивается этот самый театр самой жизни: в ходе спектакля все участники делятся тем, чем могут (hugs, lessons of Hebrew и т.д.), предварительно написав это на фантах. Меня больше всего увлекает вид из окна на торговый центр, во всю ширь которого раскатан «Завтрак на траве» Мане. Ведущей (молодой немке) приходится танцевать (загадали веселый танец) под песню еврейского алфавита (спеть которую загадали нашей новой спутнице), но в этом никто не видит ничего примечательного.
 © Павел Арсеньев
© Павел АрсеньевДень заканчивается перформансом девушки из Бразилии, решившей вспомнить явившегося ее предкам немца, не похожего на богов (т.е. на испанцев) и потому съеденного. Девушка, стоя в надувной лодке, зачитывает манифест дигитальной антропофагии, в которую сегодня вовлечены все мы, а я жалею, что не могу предаться этой дигитальной антропофагии прямо здесь и сейчас и написать пару мейлов.
2 июня
На следующее утро, несмотря на то что оно всего второе и не последнее здесь, нужно начать беспокоиться о следующей вписке (поскольку, по обыкновению, я заказал обратный билет из Берлина на неделю позже предполагавшегося срока) и наконец засесть за дневниковые записи. Чувствую, что, если сейчас срочно не начну нагонять ими реальность, она окажется далеко впереди письма.
Нас ведут рассказать что-то о добром и экономном электричестве, а я читаю о еще длившейся после Освенцима драме модерности.
Опять из-за этого никуда не успеваю и иду на случайно подвернувшуюся экскурсию по «делящемуся Веймару». Нам с умилением демонстрируют «грядку, высаженную нами, но поддерживаемую неизвестно кем», далее мы отправляемся к купленному в складчину дому (про такие housing project много слышал еще в прошлом году в Лейпциге), но не доходим до него, так как это далеко и нет времени. Уже здесь я начинаю подумывать об оставленной редактуре. Когда же мы подходим к следующему месту славы — биомаркету (в котором так прекрасно продаются натуральные продукты с ближайших ферм), я без церемоний достаю распечатки и начинаю редактировать статью об австрийском постдраматическом театре и дальше перемещаюсь только с распечатками в руках. Нас ведут рассказать что-то о добром и экономном электричестве и еще каких-то sustainable projects, а я читаю о еще длившейся после Освенцима драме модерности, дискурсы невольно монтируются, и я понимаю, что мне совершенно неинтересно в этой неунывающей вегетативной современности. Такое ощущение, что быть здоровенькими и заботиться о природе можно, только вытеснив все вопросы бытия и языка. Экскурсоводы бравируют тем, что не поведут нас по избитым местам Гете и Шиллера, а направятся прямиком к нерву современности.
 © Павел Арсеньев
© Павел АрсеньевСбегаю с этого city tour в Bauhaus University на выставку студентов художественно-дизайнерского факультета. Но там ловлю себя на мысли, что и эстетика Баухауза оказалась вполне совместима с этим умилением умеренностью и безвредностью, хотя, казалось бы, в институциональную молодость заведения его учредитель товарищ Вальтер Гропиус ставил перед ним более амбициозные задачи. Впрочем, чувствуя, что это уже во мне начинает звучать скептичный питерский искусствовед Иван Чечот (что, впрочем, в этом городе вполне объяснимо), делаю последнее усилие и сажусь на лекцию о новом прекрасном мире Uber и Airbnb, но там продолжаю без всякого стеснения (чему, впрочем, способствовал бокал шампанского) заниматься редактурой.
 © Павел Арсеньев
© Павел АрсеньевВечером немцам удается все же родить трагедию — из духа filesharing'а, но прежде всего благодаря оперному хору из 30 человек, а не бегающим по экрану буковкам.
3 июня
Ну а что же представляет собой (само)критическое искусство, приглашенное выступить на симпозиуме Sharing & Exchange? Вечерний перформанс (все того же Barther Theater) начинается с выполнения обязательств, накладываемых грантовой экономикой, но в таком ироничном ключе, что это вроде бы не должно больше восприниматься как скрываемая политэкономическая зависимость/интрига, но лишь как повод для самообращенного высказывания. С подробными самоизобличительными комментариями выкладываются логотипы тех и этих институций, «сделавших этот перформанс возможным».
Один из швейцарских фондов, наделивших художника Мартина Шика (Martin Schick) стипендией, чтобы избавить его от давления требований производительности, удостаивается особенно обильной порции сарказма. На счастливое избавление от этого давления, т.е. на выполнение условий договора, и впрямь указывает происходящее на сцене действо. Далее художник переходит к огульной критике капиталистического производства стоимости даже из меценатства и благотворительности («so to say share and invest» — «так сказать, делиться и инвестировать») и в этом уже звучит более менторски, чем когда занимался анализом собственного положения.
Делиться сегодня временем по-прежнему проблематично.
Но главное в этом прагматически повернутом спектакле понятно: чтобы быть по-настоящему действенным, высказывание должно сочетать институциональную (само)критику с лингвистическими парадоксами дейксиса. Вместо рассказывания не/бывалых историй — акцентирующее указание на ситуацию высказывания (и восприятия). Такая самокритика высказывания черпает из истории критической мысли не меньше, чем из эволюции самосознания знака в искусстве: призывая обратить внимание на самоценность момента выказывания без референта, она одновременно подробно подсчитывает стоимость одной секунды этого перформанса. Развертывание сюжета определяется этой первичной экономико-дейктической сценой. Поскольку делиться (не без выгоды для себя, как подчеркивает художник) можно всем, чем угодно, — включая ответственность за успех представления, пространство сцены и оплату труда, то далее перформанс сводится к тому, что автор приглашает любого («желательно умеющего красиво танцевать») на половину сцены за половину своего гонорара, затем — на половину половины и так далее. Из тех, кто продолжает упорно сидеть в зале, периодически выстраиваются статистические ассамбляжи (что сильно напоминает работы Rimini Protokoll), но в основном их продолжают третировать как публику, риторические обращения к которой не могут скрыть предписывание диапазона реакций и действий.
Поскольку я сижу на перформансе, отвечая на мейлы (следствие уже вполне реального прекарного производственного положения), то не сразу замечаю, как он сменяется финальной сессией, где еще говорится о доступе вместо владения и об опыте вместо материальных нужд (противопоставление чего немало удивило бы философа XIX века). Наконец раздается пара принципиальных тезисов о бенефициарах нашего sharing experience [1] и о sharing economy as a new face of capitalism [2]. Очевидно, что делиться сегодня объектами и даже пространством намного проще, тогда как делиться временем и нематериальными вещами (вопреки постопераистской максиме об эксцессивности нематериального) — к примеру, субъективностью высказывания — по-прежнему проблематично.
4 июня
Просыпаюсь в последний раз в гарантированном институцией месте и иду на гарантированный завтрак, после чего собираю вещи и отправляюсь на неделю в неизвестность — в Берлин, где вписка пока есть только на пару первых дней. В дороге занимаюсь удалением сорных мейлов (в основном по поводу логистики) и пытаюсь понять, чем занимался в мае помимо ответов на письма.
Вечером в Берлине отправляюсь, будучи заинтригован приглашениями с двух разных сторон, на вечеринку Кристиана фон Борриса, левого арт-филантропа и потомка немецкой аристократии (с предсказуемыми политическими реляциями в прошлом), который живет на крыше [3]. Здесь много знакомых, в том числе русских художников и кураторов, но закон small talk'а [4] все равно сохраняется. Ваше теоретическое размышление чуть затянулось или барахлит ваш английский — и внимание собеседника, только что задавшего вопрос, утеряно, и он тянется за проходящим мимо спасением — другим столь же мимолетным собеседником. Присутствующая Катя Дёготь сетует, что мы общаемся только друг с другом, и представляет нас с Настей Рябовой одному немцу как young russian travelling intellectuals [5]. Кажется, мы успешно упускаем свой шанс.
5 июня
Обращаю внимание, что мой интервал между осмыслением происходящего в записях на бумаге и иногда случающейся публикацией на Фейбуке — примерно неделя. Также замечаю, что для такого постоянного стресса, как прекарное путешествие, я довольно много публикую (а неделя в Питере прекрасно может обойтись без единого поста в соцсетях).
Вечером за столом, разумеется, снова разговор об искусстве. Пришедшая феминистка решила напомнить забытое, а в итоге открыла всем неизвестное окончание фразы Бойса «everybody is an artist» [6], которое звучит как «but only few become a great artist» [7], что существенно меняет дело. Сравнимая с дюшановской двусмысленность манифеста художника, который, по Бойсу, как выясняется, должен уметь не только break the dams, but also fix them [8]. Далее разговор съезжает к более модным акселерационистским разговорам — к тезису о contingency as a new term after dichotomy [9], не допускающему больше терминологического делегирования партийному, ксенофобскому или какому-либо еще дискурсу времен двуполярного мира. Все это высказывается чрезвычайно серьезными молодыми людьми, отказывающимися курить марихуану с родителями.
6 июня
Дневник июня, о котором просил Глеб Напреенко, вроде бы получается, но Берлин, где только что открылась биеннале, рискует пока фигурировать в нем только посредством встреч и разговоров. Пока у меня есть жилье и можно там оставаться, никому не мешая, я предпочитаю безвылазно работать целыми днями. Однако количество знакомых в Берлине, с которыми ведется переписка о встрече, зашкаливает, приходится составить список. А раз все равно надо выбираться из Кройцберга, рисую себе пресс-карту в фотошопе, чтобы зайти по дороге в KW [10] на биеннале.
Как и во многие другие места в Берлине за историю наших прохладных отношений с этим городом, я сюда много раз приходил с кем-то, но в неподобающем состоянии или без денег, чтобы купить билет, и потому лучше всего знаком со двором. Аккредитуемся с помощью фейковых пресс-карт (хотя мой статус констатируется ею абсолютно справедливо).
Первая же встречаемая работа — Александры Пирич, с которой мы как-то дискутировали на «Манифесте», что как бы прибавляет берлинской выставке реальности, хотя сама работа — про затопляющий сознание интернет. И далее работы в том же духе — о технологических и политических машинах, которые контролируют нас. В основном все бесконечно правильно и бесконечно скучно: главной провокацией выставки оказывается то, что в одном из темных залов можно свалиться в воду (о чем, впрочем, смотрительницы вынуждены предупреждать). Ника говорит, что все это — акселерационисты. Говорит с легкой брезгливостью. Пришедшие на смену левым импотентам от активизма правые импотенты от сверхидентификации с капиталом мечтают о том, чтобы обогнать капитализм в отчуждении и оказаться где-то по ту его сторону. И это еще самая художественная (т.е. самокритическая) часть, а все остальное и вовсе кажется пропагандой нового духа технокапитализма среди несовершеннолетних.
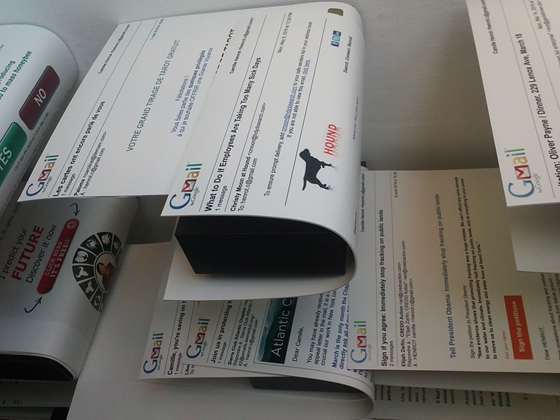 © Павел Арсеньев
© Павел АрсеньевВпрочем, это возвращает измерение времени в дискуссию — пусть это и не история, а различное нарративное время. Руководствуясь этой новой философией свихнувшегося времени (за которую отвечает Армен Аванесян [11]), художники и делают работы о нашем новом хроническом неуспевании (ответить на мейлы, заметить возникновение новых технофундаментализмов и т.д.). Если в среднем художественная интуиция сводится к переписыванию мейлов от руки (Camille Henrot), то наиболее замысловатые тематизируют саму зрительскую трату времени, размещая в тупике на последнем этаже бессмысленный знак («HOWDY», Adrian Piper).
8 июня
И да, в Берлине действительно постоянно не хватает времени. При этом город имеет совершенно расслабленный, нерабочий характер. Возможно, главный фронт проходит сегодня не по политическим убеждениям, а по тому, как распределяется и как организуется рабочее время. Если раньше авангардные изобретения совершались именно теми, у кого больше нет времени, кто больше не может ждать (в очереди в музей), то сегодня, в акселерационистской постсовременности, это стало более-менее всеобщей реальностью производственных отношений.
На своей первой вписке я почти никогда не был в одиночестве, хозяева работали дома (кофе, сигареты, Фейсбук). Я ничего не успевал, но мы много бывали на вечеринках, в гостях, устраивали ужины. Я завидовал такой жизни.
На второй вписке хозяева работали почти постоянно, в классическом индустриальном режиме, с подъемом и отходом ко сну в одно и то же время, чтобы выспаться и пойти на работу (несмотря на то что были задействованы во вполне постиндустриальном производстве). И это, разумеется, не совпадало с моим режимом, определенным мероприятиями поэтического фестиваля и биеннале, из-за чего мы практически не виделись. Я опять ничего не успевал и завидовал такой жизни.
Мой рабочий день был сильно смещен к вечеру, не имел четкого объема задач, технического задания или хотя бы предположительного плана. Просто открывался компьютер, и из него сыпались — совершенно не структурированные — обязанности: ответить на письма, создать ФБ-событие под мероприятие, внести правку в макет, сдать в типографию обложку, дописать статью, опубликовать анонс (и не забыть о личном профиле), домонтировать видео для выставки, подготовиться к докладу и так далее. Сколько я ни пытался выстроить в этом какую-то систему (на основании принимаемых функциональных ролей или тематической связности), это было невозможно. Да и не нужно: одно выполненное дело влекло за собой другое, один успешно пройденный дедлайн напоминал о следующем.
К концу недели я уже походил на титулярного советника Поприщина с его непрерывной письменной практикой при крайне низкой ее коммуникативной эффективности.
К завершению этой берлинской недели я мечтал о четко ограниченном рабочем дне (говорят, во Франции запретили писать деловые мейлы после конца рабочего дня) и очерченных производственных задачах, позволяющих видеть край и испытывать удовлетворение от завершенного труда. Самые сильные чувства подобного толка я испытываю, сдавая номер в типографию — примерно два раза в год, как когда-то сессию, — как бы выныривая на короткое мгновение из-под дел и ощущая себя настолько свободным, что тут же берусь за какое-то следующее дело. Я мечтал о классическом индустриальном делении между трудом и отдыхом. Как-то водитель маршрутки в Хельсинки спросил, пока стояли на границе, еду ли я отдыхать или по работе, и я не нашелся, что ответить.
Специфика самоэксплуатации заключается в том, что ты сам становишься вдохновителем и надсмотрщиком своей спешки: как только ты чувствуешь, что что-то успеваешь, сразу берешь что-то еще, чтобы не успевать уже ничего.
В один из дней мне пришлось сдавать видеоработу для московского Музея Гоголя, участвовать в видеоконференции Центра Помпиду и бежать вечером на мероприятие Берлинского поэтического фестиваля (не говоря уже о регулярной редакционной работе). Я как-то писал, как было организовано наше участие в «Библиотеке будущего»: пришел, раскритиковал, взяли в будущее. Но на самом деле намного примечательнее выставки сама ее куратор Мара Амброзич и устройство ее рабочего времени, с которым я поневоле познакомился. Организация ею выставки в Помпиду сочетается с дефицитом средств и отсутствием постоянного места жительства. Мара явно больше времени тратит на мейлы, где объясняет, почему не может чем-либо заниматься, чем на попытки что-либо из этого решить или содержательно обсудить проекты, которые ведет. Она является такой точкой пересечения прекарных отношений, которая попеременно оказывается угнетающей и угнетаемой. Мы обсуждаем ее люблянский бэкграунд, из чего мне так и не удается понять, чем она занимается, затем — мой и петербургскую текстографическую сцену, которой она живо интересуется, справедливо полагая, что текст, рефлексия и теория смогут стать инструментом нашей защиты от неолиберального террора. Наконец, когда речь заходит о том, что для участия в дискуссии в Центре Помпиду, куда она меня пригласила, понадобится купить билет за 50 евро, Мара начинает тараторить о своей занятости, одолеваемости тысячей контактов и неспособности больше слышать что-либо о логистике. Обычно это означает участие по Skype, что, впрочем, спасительно, поскольку мне в эти дни как раз надо быть в Берлине. Не разрываться же.
9 июня
Вставать который день в 6 утра и целыми днями, пока не заболят спина и желудок, писать, переписываться, редактировать, переводить, вносить правку, публиковать. К концу недели я уже походил на титулярного советника Поприщина с его непрерывной письменной практикой при крайне низкой ее коммуникативной эффективности. Что делать, если вы в другом городе и не успеваете ни к одному дедлайну? Найти и читать «Записки сумасшедшего».
Если письмо — это власть (по мысли де Серто), то дневниковые записи — власть над собой, позволяющая понимать себя и управлять своими действиями в мире. Но одновременно в случае гипертрофии письмо может и нарушать связь с реальностью, представать в качестве самодостаточной властной ставки. Как всякий прекарный работник, Поприщин начинает с брезгливого опасения, что кто-то может разделять с ним универсальную речевую способность [12], и пытается отстоять во что бы то ни стало свою причастность к человеческой монополии на язык. Но к эффективному использованию языка он так никогда и не приступает, а только все предуготовляется: он «специально приходит пораньше в кабинет начальника, чтобы начинить все перья». Безумие, согласно классическому определению Фуко, есть l'absence d'oeuvre, то есть отсутствие произведения, неспособность творить. Чем больше Поприщин разочаровывается в письме, тем больше он трогается умом («Не стану переписывать гадких ваших бумаг», «Что письмо — вздор! Письма пишут аптекари»).
Во всяком случае, работа по Гоголю [13] довольно точно выражала мою собственную измотанность письмом, но именно по этой причине я и не мог ее доделать. Энергия от встреч и смены контекста уже иссякла, а вернуться к регулярной работе все еще невозможно, и остается только кочевать по впискам и наблюдать за саморазрушающимися планами и обещаниями. Впрочем, сегодня я придумал одну вещь: чтобы не зависать слишком долго с одним делом, я перемещаюсь с одного на другое рабочее место в комнате.
10 июня
 © Павел Арсеньев
© Павел АрсеньевШкола дизайна и менеджмента, куда я решаю успеть заглянуть перед началом собственной презентации, представляет собой очень узнаваемый по внутренней архитектуре советский вуз с витражами на тему рабочей борьбы на лестнице. Впрочем, сама выставка целиком посвящена United States of Blockchain [14] — такой веселой технологии, которую разрабатывают в Силиконовой долине и которая сделает market inseparable from communication [15]. То есть здесь представлены даже не художники, а exhibiting companies, и в этом смысле выставка похожа на ту, что могла бы быть в «ЛенЭкспо» и называться «Мир меда» (который тоже, как известно, большая тема). Экспонирующая сторона зовет в тот момент, «когда софтвер съедает мир, выразить свое недовольство на национальной почве внизу либо войти в глобальное технологическое облако наверху». Здесь же на соседних стендах другие выставочные контрагенты заикаются о криптоанархистском потенциале блокчейна, но меня интересует, что будет с теми, кто не умеет или не захочет подключаться к интернету, когда коммуникация сольется с рынком, а все государственные социальные подпорки отомрут. Причем не только в этой биоразлагающейся Европе, но и там, где государство, поддерживающее всех недостаточно технологичных и недостаточно богатых, по-прежнему, к сожалению, зачастую оказывается главным европейцем.
Примечательно, что ни на одной из площадок биеннале, исследующих нашу зависимость от технологий, не работает интернет.
 © Павел Арсеньев
© Павел АрсеньевПоследняя площадка биеннале смотрится уже на бегу — что, впрочем, акселерационистской программе вполне отвечает и удачно перекликается с работой Анны Удденберг (Anna Uddenberg) — разбросанными по всем этажам Академии искусства женщинами, вросшими в чемоданы в процессе опоздания на пересадку. В подвале нахожу видео о российско-украинском конфликте за авторством Хито Штейерль, перевод которой мне как раз надо отредактировать для готовящегося выпуска. И как раз где-то здесь я понимаю, что для того, чтобы хоть что-то успеть, нужно срочно ехать в аэропорт и возвращаться к работе над текстом.
[1] Опыта совместного пользования.
[2] Экономике совместного пользования как новом лице капитализма.
[3] По дороге обсуждаем попытку одной художественной группы создать аудиторию под себя, наладив массовое производства художника-то-ли-активиста, который не впишется никуда так хорошо, как в роль почитателя и продолжателя дела группы. По сути это пример перепроизводства и последующей эксплуатации субъективности.
[4] Короткого разговора.
[5] Молодых русских путешествующих интеллектуалов.
[6] «Каждый человек — художник».
[7] «Но лишь немногие становятся великими художниками».
[8] Рушить плотины, но и укреплять их.
[9] Контингентности как новом термине после дихотомии.
[10] Институт современного искусства Кунстверке.
[11] Главный импортер спекулятивного реализма в Германии, редактор Merve Verlag и соавтор вместе с Анке Хенниг книги «Поэтика настоящего времени».
[12] «Я не слыхивал, чтобы собака могла писать», «коровы попросили фунт чаю», «рыба сказала два слова на таком странном языке, что ученые до сих пор не могут определить».
[13] Заручившись методом материалистической диалектики совпадений, нетрудно догадаться, что в образе титулярного советника, раздираемого между прокрастинацией и отсутствием свободного от работы времени, уязвленного низким социальным статусом и конструирующего шизополитическую идентичность («Этот король — я»), великий русский писатель в точности предсказал производственные условия и габитус нематериальных работников нашего времени.
[14] Соединенным Штатам Блокчейна.
[15] Рынок неотделимым от коммуникации.



