Квир в Стране Советов, или Археология разномыслия
Надя Плунгян задается вопросом: что делать, если твою исследовательскую оптику считают разрушительной?
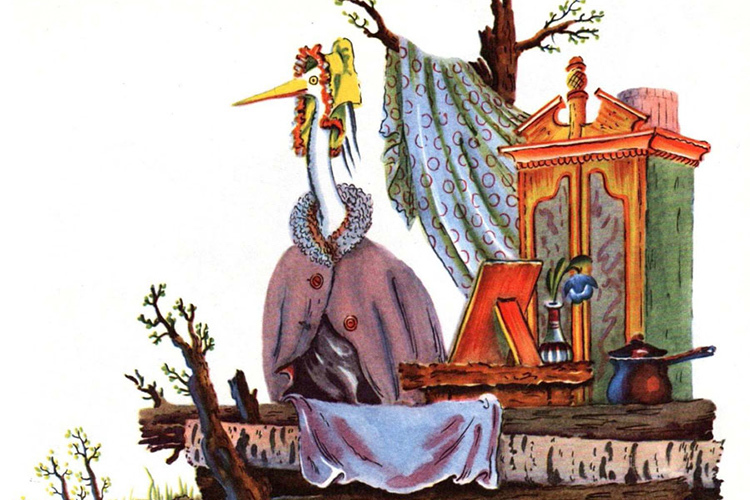 Владимир Конашевич. Иллюстрация к книге «Старик-годовик». 1959
Владимир Конашевич. Иллюстрация к книге «Старик-годовик». 1959Журнал «Разногласия» попросил меня написать о том, как квир-исследования могут стать инструментом историка или искусствоведа, пишущего о советском культурном пространстве (в моем случае речь идет о пространстве 1930—1950-х годов). Что ж, существует растущая плеяда западных исследований, так или иначе представляющих модернистские и премодернистские процессы искусства и литературы XX века в версиях феминистского и постколониального анализа и разбирающих проблемы гендера, сексуальности, расы, класса и идентичности; среди переводных изданий этот список обычно возглавляет «Эпистемология чулана» Кософски Седжвик. Можно было бы просто перечислить их, рассказав о том, что было сделано в 1990-х и каким образом можно перенести те или другие оптики на российскую почву, но меня интересует другое, а именно — сама специфика советского материала и заложенных в нем методологических ловушек. Увидеть эти ловушки можно уже сейчас — на примере институциональных попыток российского прочтения темы квир.
На мой взгляд, выстроенные в 1930-х бинарные структуры до сих пор служат определяющими координатами в современных описаниях советского художественного процесса, и именно здесь лежит главная причина того, что квир-измерения советского до сих пор являются дискуссионной темой. Но проблема оказывается шире. Даже в том узком сегменте правозащиты и ЛГБТ-активизма, который как будто бы не просматривается большой академической критикой и вполне может внутри себя легитимировать квир-оптику даже не исторически, а, например, применительно к современной массовой культуре, возможности такого анализа пока еще сильно заторможены и почти полностью выведены в субкультуры.
Полемика о том, «возможен ли квир по-русски», развернулась в России шесть лет назад, после одноименной конференции в ЛГБТ-организации «Выход», однако процесс внедрения термина неожиданно закончился чем-то вроде детоубийства. В 2015 г. инициатор конференции, активист и публицист Валерий Созаев выступил с программной статьей «“Квир” должен умереть», где выражал беспокойство, что термин выходит из-под контроля, используется крайне широко и кем угодно, больше не выражает политические интересы ЛГБТ-движения и вообще не выражает ничего. «“Квир”, — писал Созаев, — это пустое означающее, поскольку какого-либо консенсуса относительно означаемого не существует. Невозможно найти двух идентичных “квиров”. А если нет идентичных “квиров”, то нет и не может быть никакой “квир-идентичности” <...> “квир” — это не только не сущностная (т.е. не эссенциалистская), а изначально игровая (т.е. перформативная) категория, в которую поиграв сегодня, можно отбросить завтра».
 Василий Чекрыгин. Рисунок из цикла «Сумасшедшие». Нач. 1920-х гг.
Василий Чекрыгин. Рисунок из цикла «Сумасшедшие». Нач. 1920-х гг.Отчетливо «родительские» интонации последней фразы заставляют задуматься о том, насколько всеохватным сегодня становится постсоветское понимание нормативного и входящий в него пакет демагогических подмен. Среди прочего, изнутри оказывается уже трудно оценить весь масштаб привычки российских медиа оперировать понятиями «мы» и «они». «Они» в этой картине непохожи на «нас», а потому исключены и неприятны своей уязвимостью или просьбами о помощи. Чтобы получить помощь, «они» должны доказать «нам» реальность своей стигмы, вплоть до печально известного ежегодного переосвидетельствования инвалидности. С этой позиции в России идентичность — это действительно не «игра», а социальная константа. Именно из недвижимых, постоянных идентичностей («одинаковых квиров») складывается сообщество «нормальных», подозревающих друг друга в «ненормальности», и его отражение: сообщество «ненормальных», каждый из которых подозревается в симуляции стигмы и получении выгоды.
Настолько неподвижный социум, расколотый надвое враждебностью и взаимной подозрительностью, способен хоть немного жить и меняться только в одной точке — точке перехода из одного состояния в другое, из одного лагеря в другой. Эту точку можно определить как момент признания стигмы (или каминг-аут), особенно беспокойный в своей конечности, момент, где для «них» навсегда закрываются социальные возможности, доступные «нам». Совсем не случайно, что самый яркий низовой проект 2010-х, связанный с темой квир, — созданный Леной Климовой сетевой паблик ЛГБТ-подростков «Дети-404» — по факту посвящен именно тому, как человек начинает наедине с собой осознавать вхождение в эту точку невозврата. Подросток, раскрывающийся перед родителями или другими взрослыми как бисексуал, трансгендер, лесбиянка, пансексуал или гей, оказывается для них именно «пустым означающим», поскольку — следуя за Созаевым — в российском большом обществе за пределами заведомых гомофобных штампов не существует какого-либо «консенсуса» о том, как именно должны выглядеть, жить или проявлять себя «эти люди». Страницы паблика содержат множество таких беспокойных, контролирующих или жестоких родительских ответов, где также говорится о том, что идентичность не может быть временной или игровой, а окружающий мир резко бинарен: «Если ты окажешься ЭТОЙ, я тебя и на порог не пущу!»; «Хорошо, что ты у нас нормальная. Не знаю, что бы я с тобой сделала, если бы ты была такой же, как и эти психи»; «Она сказала, что все это я выдумала, что я забиваю голову этой “дрянью” от скуки»; «Мне совсем недавно исполнилось 18. Но я совершенно четко ощутил, как в глазах других я мгновенно перешел из разряда “глупого, обманутого кем-то ребятенка” в “злобного, обманывающего других извращенца”».
Выстроенные в 1930-х бинарные структуры до сих пор служат определяющими координатами в современных описаниях советского художественного процесса.
Перед лицом требований «определиться» с социальной ячейкой понятие «квир» появилось для того, чтобы проблематизировать сами эти требования и тем самым разоблачить в каждом из доступных дискурсов его скрытые представления о пределах нормативности. Рефлексия и самокритика внутри сообщества, порождающая внутренний диалог, неизбежно тормозит его ассимиляцию — почти так же, как слишком большое количество вопросов, которые задает себе подросток, приводит его к отказу от общепринятых версий подростковой социализации.
Здесь важно понимать — и это следует из статьи «“Квир” должен умереть», — что первоначальная идея легитимировать термин «квир» через российскую академию или правозащитные движения подразумевала именно ассимиляцию, а вовсе не заявление о новом политическом движении. «Российские ЛГБТ-активисты изначально придерживались той же стратегии, что и российские исследователи: “квир” как ширма для гомосексуальности. Именно этой стратегии обязан своим названием “КвирФест” в Санкт-Петербурге. Когда в 2008—2009 гг. мы обсуждали, как назвать культурный фестиваль, который, с одной стороны, мог бы привлечь внимание, а с другой стороны, мог бы не навлечь излишних неприятностей со стороны властей, мы остановились на слове “квир” в том числе потому, что по-русски оно было практически неизвестно и не ассоциировалось с гомосексуальностью <…> При этом как такового квир-активизма в России также не появилось: никаких инициатив, подобных ACT UP или Queer Nation, в России пока не существует».
Очевидно, в такой ситуации следует говорить не о том, что квир-активизм в России «не появился», а о том, что он и не должен был появляться, потому что термин, пока непонятный в русскоязычных средах, был уже заранее апроприирован ЛГБТ-активизмом для собственных целей. Если же в сообществе возникали небольшие ростки самоадвокации, альтернативной ЛГ- или ЛГБТ-активизму, они насмешливо противопоставлялись таким крупным и уже историческим инициативам, как ACT UP. Это и создавало смешанную репрезентацию, в которой российский квир представал одновременно как провинциальный, претендующий на прогрессивность, несвоевременный и недостаточно институционализированный подход. При этом параллельно с критикой несоответствия российского квира западному манифестировалась «тотальная разрушительность “квир” по отношению к лесбигей-идентичностям»: поставить под сомнение бинарные категории, таким образом, снова оказывалось невозможным, более того, такой жест объявлялся перечеркивающим все достижения проделанной за десятилетия правозащитной работы (все в том же русле «неблагодарности родителям»).
 Антонина Софронова. Портрет Н.А.Кастальской. 1950-е
Антонина Софронова. Портрет Н.А.Кастальской. 1950-еКорни современных бинарностей в российском обществе, очевидно, следует искать в истории репрессий и чисток и в этакратическом гендерном порядке. Именно поэтому в большинстве российских дискуссий, связанных с идентичностью, основным побудительным вектором становится стремление создать такие крупные нарративы, которые бы позволили максимально избегать описания социально конкретных частных случаев.
Один из таких нарративов предложила, например, московская выставка «И — искусство, Ф — феминизм. Актуальный словарь». Это была последняя из серии феминистских выставок, сделанных на консервативном переломе 2014—2015 годов: последняя в том числе и потому, что в своем названии она содержала культурно-историческую точку. И если вернуться к российским перспективам понятия квир, то имеет большое значение, что российская версия феминистского словаря, пройдя как бы финальную институционализацию, не содержала в своем оглавлении букв Л, Г, Б и Т (не говоря о К) и никак не проблематизировала эти понятия политически, помещая на их место размытые категории, больше характеризовавшие собственную невозможность говорить прямо («адаптация», «исключение», «невидимость»).
Несмотря на поверхностное сходство с перечнями и списками концептуалистов, алфавиты, словари, азбуки и антологии, к которым последнее время часто обращается российское искусство, имеют принципиально другую институциональную природу. Современный арт-букварь создается в условиях цензуры, но не содержит в себе критического потенциала. Он производится и показывается в пространстве, которое не ощущает себя приватным. Цель такого словаря — утвердить цензурированный дискурс как разумную норму, подходящую для начинающего, и указать зрителю сразу и на ужесточение оппозиций, и на упрощение любых политических категорий.
Анализ должен содержать в себе не только список репрессированных и список лауреатов (то есть фигур, четко опознанных властью).
Если словари-каталоги высокого постмодернизма (от Павича и Борхеса до Пивоварова) выстраивались как игровая рефлексия в диалоге со зрителем, недоступная власти, то современная цензура заставила российское искусство покинуть прежде безопасное пространство игры и соскользнуть в отсылки к более давнему прошлому. Здесь как раз и приходится вспомнить, что азбуки приобрели особенную культурную роль с самых ранних лет советского проекта — с 1919 года, когда они стали главным элементом программы ликвидации безграмотности и одновременно средством разметки политического и культурного ландшафта, средством выделить одни доминанты и спрятать или девальвировать другие. Первые из азбук писались раешным стихом и были стилизованы под лубок — таковы самодельная «Советская азбука» Маяковского (1919), декоративная «Азбука красноармейца» Д. Моора (1921), близкая революционно-демократическому плакату «Азбука революции» А. Страхова (1921). Версии конца 1920-х менее очевидно политизированы и продолжают художественную традицию Бенуа и Нарбута («Октябрьская азбука» Д. Митрохина (1927), «Азбука» В. Лебедева (1925)), но и в них практически нет случайных элементов. В 1930-х такая риторика сменилась направленным на массы агрессивным политическим шаржем («Антирелигиозная азбука» М. Черемных (1933)), который, впрочем, быстро уступил место более мощному инструменту — монтажным иллюстрациям к официальной статистике, лучше всего известным по журналу «СССР на стройке» (1930—1941, 1949) и по парадным сталинским изданиям.
Осваивая язык искусства, советская и российская политическая инфографика предлагает к восприятию уже сильно переработанную и кластерно систематизированную информацию, где зритель не видит всех фактов и не имеет возможности сопоставить их для самостоятельных выводов. Перед ним герметичная схема, где нет места для диалога или вопросов авторам концепции, так как она отражает не авторский взгляд, а «положение дел», констатирует политическую норму. Зритель в этой системе воспринимается только одним образом — как «неграмотный», как «обыватель» и никогда — как соавтор.
Как тогда, так и сейчас азбуки не претендовали на главное место в культурном пространстве, но, несомненно, раскрывали его структурные основы. Именно такие произведения имеет смысл анализировать, подступаясь к квиризации архива: нужно спросить себя, на каких условиях квир-интерпретации могут соединяться с официальными историческими дискурсами или быть их частью, и спросить себя, что этому мешает. Это позволит увидеть, что в названии «И — искусство, Ф — феминизм. Актуальный словарь» смыслообразующим словом является «актуальный» (в противовес неназванному, но «неактуальному»), а в постановке вопроса о том, «возможен ли “квир” по-русски», ключевым пунктом является не тема возможностей, а привнесение в проблематику национального измерения («по-русски», а не «по-российски»). В обоих случаях ответ заключен в самих формулировках: современные концепции «русскости», ориентированные на консервативную стабилизацию, не подразумевают не только никакого «квир», но даже и стабильного гомонационального контракта, описанного Джазбир Пуар, — так же как и поле «актуального искусства» не подразумевает никакого хоть сколь-нибудь отчетливого феминистского анализа.
 Борис Свешников. Цветник на снегу. 1973
Борис Свешников. Цветник на снегу. 1973Кажется особенно интересным, что тенденция создавать подобные большие нарративы вызывает агрессию у тех представителей актуального искусства, которые застали советский проект и видят себя его частью (в том числе и контркультурной). Так, в недавней статье-манифесте российский художник Авдей Тер-Оганьян, живущий сейчас в Праге, прокомментировал сам принцип «актуальных словарей» как бледную копию советского подхода: «Я за год могу сделать из любого дурака современного художника-концептуалиста. Если человек имеет высшее образование, умеет хорошо писать, ему нужно прочесть пару книг и понять принцип создания произведения современного искусства, которое по сути превратилось в иллюстрации к темам. Если ты что-то делаешь, например, на тему феминизма, нацизма, антисемитизма, гомофобии, это автоматически хорошо». При этом Тер-Оганьян протестует против нового опустошения смыслов в пользу старых пустых означающих (я бы сказала, в пользу подмен модернистской эпохи): в качестве альтернативы он предлагает создать Союз советских художников, вернуться к «табуированной» сегодня на рынке «советской художественной школе», которая внезапно рисуется как «интернациональная» и противостоящая однобокой политической ангажированности (!). Вслед за «Актуальным словарем» Тер-Оганьян вводит ряд идеологем, не предполагающих никакого пояснения и проблематизации: «Нам всячески пытаются навязать понимание советского как искусства натурализма 1940-х годов. Мы же смотрим на это широко: от Пикассо до академизма. Единственное, что выходит за пределы нашего интереса, — это чистая абстракция и чистый концепт».
Тер-Оганьян, разумеется, не готов нести ответственность за эти формулировки. Я буду рада, если на пресс-конференции его кто-то об этом спросит: что такое чистая абстракция, что такое натурализм и чем он отличается от академизма, почему Пикассо вдруг стал частью «советской художественной школы» и что это за такая золотая антиформалистическая середина без социальной остроты, которой должны заинтересоваться художники по всему миру. Думаю, это реально оживит дискуссию. Но на самом деле основа его сообщения не в этом: главное — устойчивое восприятие зрителя и художника как «дураков», вовлеченных в создание бессодержательного иллюстративного контента, наполненного любыми понятиями. Чтобы хоть немного выйти из этого замкнутого круга, художник может сталкивать между собой разные запросы власти, ожидая, кто кого поборет, но категорически не должен идти на риск изобретения собственных терминов или проблематизации своей внутренней ксенофобии и колониализма. «Как будто нет больше никаких критериев, — восклицает Тер-Оганьян. — Если антисемит и гомофоб — значит, плохой, если нет — значит, молодец. Как будто мы в гей-клубе в Израиле!»
Периодически я пишу о том, как постмодернистское искусствознание создало монолитный образ советского искусства, составленный из трех доминирующих дискурсов — авангард, соцреализм и концептуализм (нонконформизм). В этой стратегии есть несомненный след советских азбук — азбук нормативности, где рассказывается только о победителях, о героях, о классе-гегемоне и о его повседневности, и продать новый дискурс можно только тем же образом — провозглашая его авторов героями и гегемонами, преодолевшими обскурантизм «старого мира». Специфика этих поздних азбук в том, что доминирующие субъекты неизбежно противопоставляются в нем периферийным субъектам, обозначенным как квирные. Например, в учебнике Екатерины Деготь по искусству XX века фигурируют «принципиально “никакой”» живописец Фальк [1], «аутсайдер» Филонов [2], «альтернативный» Матюшин [3] и «заброшенная форма» живописи Древина [4], аналогичная, скажем, заброшенному и ветхому зданию в урбанистической риторике тридцатых.
Искусство представляет собой вовсе не пантеон гениев, а ненадежную экспериментальную работу, всегда совершаемую стигматизированными людьми.
Замечу, что в таком подходе квиризируются не только конкретные личности, но и целые исторические периоды, не укладывающиеся в концепцию «радикальности» (как эпоха 1940-х годов); отдельные эстетики определяются в категориях болезни («к середине XX века советская эстетика в массе своей зашла в тупик глубокого безумия <…> но концептуализм предложил выход в сторону здравого смысла» [5]) или даже в категориях смерти («представление о картине как о чем-то биологическом… было типично филоновским, но эта биология всегда несет в себе огромный потенциал умирания» [6]). В таком же духе и сам социалистический реализм активно квиризировал литературу, культуру и науку XIX столетия, представляя отсутствие модернистского коллективизма в категориях чахлости, отсталости, феминности, эмоциональной неустойчивости, развращенности и дикости (то есть декларируя собственную победу через фабрикацию неуязвимости по кластерам гендера, расы, класса, образования, инвалидности, идентичности, сексуальности и т.д.).
Важное условие современного культурного воспроизводства любых бинарных оппозиций, наследующих модернизму, состоит в том, что зашкаливающая мифологизация общественных отношений и отдельных стратегий делает недоступной и неприличной информацию о породившей их социальной конкретике. Лучше всего это видно на примере индивидуальных мифологий и действующих сейчас в российском поле модернистских культов — например, культов Пушкина, Гоголя, Маяковского, Пастернака, Ахматовой, Цветаевой, Бродского, Высоцкого и даже Довлатова, которые полностью — и крайне агрессивно — исключают информацию об истории их идентичности, предлагая вполне бинарную концепцию гениальности, заданную еще в сталинской парадигме. Не нужно быть даже знакомым с работами Александра Жолковского и Лады Пановой, чтобы увидеть асимметрию и умолчания в русскоязычных биографиях Ахматовой; не нужно быть филологом или искусствоведом, чтобы уловить сильнейший общественный запрет на информацию о частной жизни протагонистов советской культуры, снова сопоставимый с оскорблением родителей. Так о «мемуарах второго эшелона» пишет для «Коммерсанта» Мария Степанова: «Никаких секретов, никаких телесных или душевных тайн: доблесть исследователя — найти то, что спрятано, охотник желает знать. И вот он заголяет наготу отца своего и без колебаний переходит к братьям и сестрам, тем, кто ближе к нам во временной цепочке, и о них можно вспомнить побольше всякого интересного». Фиксируя этот запрет подробно, Степанова также говорит об иррациональном чувстве вины, которое она, как исследователь, испытывает из-за своего интереса к архивной работе.
Анализ модернистского пространства, пронизанного репрессиями и самоцензурой, не будет состоятельным, если будет предлагать одни лишь герметичные описания его поверхности и мемуары «первого эшелона», которые историк просто созерцает и воспроизводит, а художник или эссеист слегка перестраивает и радикализирует по мере своей чувствительности (как это делают Кабаков, Гройс или Сорокин). Анализ должен содержать в себе не только список репрессированных и список лауреатов (то есть фигур, четко опознанных властью), но и исследование и распознавание индивидуальных стратегий тех, кто смог от власти ускользнуть или остаться на таких территориях, которые представлялись в культуре опасными, неинтересными, недальновидными, архаичными, потому что эти территории тоже являются политическим выбором. Признание факта политического разнообразия и факта множественности индивидуальных стратегий в довоенной ситуации в конечном итоге позволит более четко распознать и мотивации репрессий: колониальных, гомофобных, религиозных, классовых и так далее.
 Василий Чекрыгин. Композиция с фигурами. 1918 (фрагмент)
Василий Чекрыгин. Композиция с фигурами. 1918 (фрагмент)Пока такого поворота не происходит, современные исследователи и художники раз за разом будут упираться в тупики, создавая на месте художественных и научных пространств что-то обтекаемое, понятное для власти и успокаивающее власть в ее предполагаемых подозрениях. Но страх быть недостаточно понятным — главный двигатель постсоветской популярной науки — должен смениться осознанием гражданского и политического смысла художественной и научной деятельности и осознанием индивидуальной ответственности за исследование, которое содержит в себе и факт уязвимости его автора. Ведь в конечном итоге интерес историка к той или иной проблеме является подлинно политическим интересом.
Вместо того чтобы годами вести публичные дискуссии с намеренно консервативной, популистской постановкой вопроса о «возможности» политических изменений и гражданского сопротивления — например, «есть ли» и «нужен ли» в России феминизм или квир (см. тут или тут), нужно вернуть понимание искусства как полемического процесса и диалога, вернуть множественность культурных позиций и утвердить уважение к непредсказуемости «Другого». Вместо того чтобы возглавлять и создавать журналы, имитирующие философский анализ, и делать выставки, не производящие новых смыслов, нужно спросить себя, кто является реальным зрителем, читателем и заказчиком этой продукции, на какую продукцию в истории она похожа и кто был заказчиком тогда.
Разрушительные для российского научного процесса чувство вины перед достижениями структуралистов или лояльность постмодернистским институциям должны уступить место исследовательской честности, которая, среди прочего, дает полное понимание того, что искусство представляет собой вовсе не пантеон гениев, а ненадежную экспериментальную работу, всегда совершаемую стигматизированными людьми. Действительные задачи такой работы, как и стратегии и стигмы ее авторов, заслуживают того, чтобы быть описанными и исследованными во всей полноте, и в этом прежде всего и состоит применение квир-оптики как инструмента по отношению к советскому материалу — со всей совокупностью его ассимилирующих контрактов.
[1] Деготь Е. Русское искусство XX века. — М., 2002. С. 131.
[2] Деготь Е. Русское искусство XX века. — М., 2002. С. 50.
[3] Деготь Е. Русское искусство XX века. — М., 2002. С. 47.
[4] Деготь Е. Русское искусство XX века. — М., 2002. С. 132.
[5] Деготь Е. Русское искусство XX века. — М., 2002. С. 165.
[6] Деготь Е. Русское искусство XX века. — М., 2002. С. 53.



