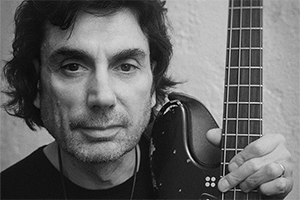 Современная музыка
Современная музыкаКаспар Брёцман: «Главное — поймать правильный звук в нужный момент»
Немецкий гитарист-импровизатор, выступающий на фестивале «Джаз осенью», — о влиянии Ника Кейва и новом проекте Bass Totem
12 октября 2021164
— Скоро в Московской школе нового кино откроется ваша лаборатория под названием Confronting the Real («Противостояние Реальному»). Вы отсылаете к лакановскому понятию Реального? И почему ему нужно противостоять?
— Да, это лакановское понятие. Не реальность, а Реальное. Это вопрос Реального. И это вопрос Вещи. Реальное — то, к чему ты не имеешь доступа. Оно напротив тебя, но ты не можешь подступиться к нему. И так всегда. Как говорил Лакан, я могу увидеть правду, но я не могу увидеть всю правду.
— Тарковский говорил, что кино должно работать не с реальностью, а с нашей иллюзией реальности… Что он, по-вашему, имел в виду?
— То же, что и я (смеется)! Мы все говорим об одном и том же. Мы все имеем дело с тем, что мы не можем уловить, или понять, или контролировать. Это «что-то» очень важно, и важно оно потому, что мы не можем его уловить, понять и так далее. И мы даже не можем выразить это… Ни один язык мира не имеет доступа к этому. Язык очень ограничен.
— Но в современном кино звук — и речь в том числе — часто и является образом. При этом вы сами как-то сказали, что речь/диалоги находятся внутри всех ваших фильмов, но они — не то, что придает фильмам смысл…
— Да, звук часто важнее изображения. Звук дает доступ к очень сильным эмоциям. Причем звук и музыка — разные вещи. У меня есть сцены, где есть только звук. Звук порой работает намного сильнее, чем музыка, потому что со звуком человек ждет. Ждет, что произойдет, когда ничего не происходит. Это саспенс. И звук, и музыка завладевают нашим телом, порабощают его. Поэтому режиссура для меня — это режиссура звука, в первую очередь. В работе над «Озером» я добивался, например, того, чтобы мы слышали звуки снега, озера, дыхания лошади, ветра, походки, стука льда и т.д. Только слышали. Существует и физиологическая причина этому: первое, что мы воспринимаем внутри утробы матери, — звук. Мы еще не видим, но мы слышим. Когда я писал «Sombre», первое, что я написал, было о свете. Герой всегда должен находиться в кадре против света. И я написал о том, какие должны быть цвета и звук. И вот звук, я писал, должен быть сначала очень диким, но мы так далеко, что мы не можем слышать его. Это будто конец чего-то очень сильного, но мы уже в конце этого…
— Вы только что сказали «когда я писал “Sombre”» — но, насколько я знаю, работая над фильмом, вы же не пишете сценарий как таковой, а во время съемок вообще не отсматриваете готовый материал, видите его уже только на монтаже?
— Вообще-то для меня работа над сценарием очень важна. Но это не сценарий в традиционном понимании. Для меня важно писать. Через описание моих отношений с миром я вырабатываю подход к фильму. Письмо — важнейшая часть процесса. Но я не обязательно расписываю сцены или еще что-то такое. У меня может выйти сценарий, но это будет описание не того, что происходит в фильме, а того, что происходит вокруг фильма. Это первый шаг — фильм выходит из меня наружу. Медленно. И с помощью письма. И уже затем, возможно, я начинаю работать с какими-то соавторами, уже хочу сделать что-то конкретное, как бы сценарий, с героями, диалогами, сценами. Но! Когда я снимаю, его для меня больше не существует. То есть мне нужно писать, мне нужно иметь возможность подойти к фильму через письмо, но, когда я начинаю снимать, я забываю обо всем написанном. Так же и в музыке, например. Иной дирижер стоит и смотрит вниз, на партитуру, а другой вообще ее не замечает и смотрит прямо, на свой оркестр, — музыка уже внутри у такого дирижера, ему не нужны ноты.
В сценарий можно смотреть до съемок. А на съемках ты должен быть свободен, забыть все. По сути, фильм — это странное соотношение между тем, что ты планировал, и тем, что ты сумел забыть.
 Кадр из фильма «Sombre»© Arte
Кадр из фильма «Sombre»© Arte— Персонажи ваших фильмов часто трансгрессивны, они — перверты, преступники. Как происходит процесс интернализации таких субъектов? Если фильм находится «внутри вас», то как вы примеряете на себя опыт и характеры героев — или они, напротив, являются экстернализацией ваших фантазмов, переживаний, культурного опыта?
— Думаю, когда ты пытаешься выстроить фильм о преступлении, то все это… сумасшествие должно находиться очень глубоко в тебе самом, быть частью тебя. Как говорил Флобер, когда писал «Мадам Бовари»: «Я — мадам Бовари». Или, когда вы читаете Достоевского, вы чувствуете, что он там везде. Каждый персонаж — то, как он двигается, как ест и т.д., — выстроен ровно из того, чем является сам Достоевский. Ты один как автор являешься всеми элементами твоего мира. Поэтому, когда я начинал работать над протагонистом «Sombre», я пытался найти в нем то, что чувствую сам, даже учитывая, что я не убийца… (Смеется.) В смысле ощущений, перцептивности я сам ощущал то, чем можно наполнить этого персонажа.
Короче, когда ты работаешь над персонажем, ты не думаешь об этих общих терминах и психиатрических классификациях вроде «о, сделаю-ка я фильм об извращенце, вот тут надо так, а вот там — так!». Ты не можешь организовывать вещи по схеме, в каком-то ключе, определяя, кто плохой персонаж, кто хороший, кто мужчина, а кто женщина... здесь мы сделаем то-то, вызовем у зрителя такую-то реакцию, а вот так мы должны сделать, чтобы сцена «заработала», и т.д. Ты работаешь со своей жизнью. И опыт твоей жизни наполняет любой фильм. Поэтому тут важно понять, каков твой объект. Не субъект, а объект. Субъект не имеет значения. Например, если ты делаешь фильм о парне, работающем в порту, или о парне, живущем в подмосковном спальном районе, или о состоявшемся университетском профессоре — все это субъекты. А объектом я называю твой личный подход к этим субъектам. В этом подходе много элементов, много событий. Ты в этот момент как фильтр. Ты должен его найти и следовать в процессе съемки объекту фильма, а не его субъекту: герою и его перипетиям. При этом совершенно не важно, буржуазна твоя жизнь или маргинальна, семейный ты человек или одиночка и так далее. Я живу с семьей, я люблю ее, я обожаю своих детей, но, когда я делаю мои фильмы, я должен стать… совсем другим, чтобы найти этот объект, этот подход, чтобы понять, что у меня за материал. С этого начинается работа — попытаться подойти, найти подход в отношении героя к свету, к звуку, к лицам, к небу… Например, если говорить о «Sombre» — этот парень, Жан, очень близок, слишком близок (нам)… Его чувства можно найти и в самом себе, они — вне категорий патологии и нормы. Для этого не нужно быть первертом или преступником. Многое из того, что переживает Жан, мы можем взять из состояния ребенка, которым был каждый. Достаточно вспомнить это… чувство, что ты находишься слишком близко к вещам… Любой фильм или сцена должны быть организованы вокруг того, что происходит в тебе, что принадлежит тебе.
А норма — это что-то очень пугающее. Потому что не существует никакой нормы. Норма, нормальность — это нечеловеческое условие.
— В «Озере» припадки главного героя Алекси перемежаются со сценами, намекающими на его влечение к сестре. Инцест стал одной из линий в отношениях между отцом и дочерью и в вашем последнем фильме «Наперекор ночи». Инцест наряду с перверсивностью — еще одна важная для вас тема?
— Это очень хороший вопрос. Да, тема этой любви очень важна для всех фильмов, которые я сделал, она везде в них. Ее нельзя избежать, потому что ты сталкиваешься с ней так же, как сталкиваешься с насилием; такое случается, увы. Но одновременно этот опыт может быть очень важным в жизни... персонажа. В «Наперекор ночи» инцестуозность проходит между Леной и ее отцом.
— Но почему эта тема так важна для вас?
— Не знаю. Не обязательно же иметь инцест в своей биографии, чтобы говорить о нем. Любовь имеет столько аспектов... любовь — это не только то, что происходит внутри пары… И любовь может быть очень, очень деструктивной, насильственной. Но мы созданы со всеми этими возможностями любви. Смешно, но сначала я хотел назвать фильм не «Наперекор ночи», а «Возможности любви». Или «Невозможности любви». И, я думаю, фильм — об этом. Любовь между отцом и дочерью, ревность, дикая ревность, которая разрушает все, — это все в нас, эти страсти. Но, когда делаешь фильм, важно подойти к человеческим страстям. Поэтому так сложно со сценарием. Сценарий только организует порядок истории. А история… упорядочивает страсти, контролирует их посредством нарратива. И, чтобы снять страсти, нужно выбросить, разрушить сценарий.
— Я чувствую, вам очень близок Достоевский…
— Именно! Он — гений. У героев Достоевского — огромная энергия страстей. Эти переходы от любви к ненависти... кто-то внезапно становится абсолютно сумасшедшим, мерзким, брутальным… Я тоже пытаюсь воссоздать эту работу страстей.
 Кадр из фильма «Наперекор ночи»© Mandrake Films
Кадр из фильма «Наперекор ночи»© Mandrake Films— «Наперекор ночи» иногда упрекают в тавтологичности, в неотрефлексированном повторении (и не первом) одних и тех же приемов. Вы согласны с таким обвинением? Или же, наоборот, это повторение — демонстрация авторского стиля?
— Не знаю. В каждом фильме ты пытаешься подойти к чему-то очень конкретному. Тем не менее всякий раз это один и тот же мир — что в «Sombre», что в «Наперекор ночи». Иногда ты пытаешься подступиться к тому, о чем вообще ничего не знаешь. В «Новой жизни» у меня было очень много трудностей на пути к главной героине. Я стремился стать к ней ближе, но определенная дистанция по отношению к ней все равно сохранилась. Зато в «Наперекор ночи» зритель может быть намного ближе к героям.
Невозможно не повторять себя. Повтор обязателен. Это повтор того же чувства, той же истории… Это и есть стиль. Ты можешь подступиться к реальности только через стиль. А стиль — это всегда повторение. Если вы посмотрите на любого живописца, то увидите один и тот же прием мазка, одни и те же движения. Повтор у Пруста — это все равно Пруст, а не Достоевский. У Достоевского свои повторы.
Я вообще работаю как слепой. Пытаюсь понять, каким будет следующий фильм, и это очень сложно. Потому что, как я уже говорил, фильм — это не про субъекта, не про героя и его любовную историю; так работают в Голливуде — есть тема, история, звезда на роль, локация — и все. А я очень долго и сложно иду к фильму.
— Вы — один из тех редких режиссеров, кто понимает и принимает современное искусство и его влияние на кино. Каких современных художников вы любите?
— Я не отделяю искусство от кино или кино от искусства. В молодости я увлекался живописью, был под влиянием Эль Греко, Ватто, Гойи… Также меня интересовала история искусства, все эти истории импрессионистов, экспрессионистов… Искусство способно пропускать через себя, передавать время. Тот же Дэмьен Херст, который передает отношения современности с властью и деньгами. Изобразительное искусство сегодня много работает с репрезентацией могущественных возможностей, которые дают деньги, и с фигурами тех, кто хочет быть богатым и знаменитым; это совсем не то, чем искусство занималось 100 лет назад. Плюс гаджеты, из которых мы беспрестанно получаем какую-то информацию. С этим тоже работают многие художники. Но иногда современное искусство слишком скучно для меня, слишком концептуально. Я могу понять его разумом, но это просто скучно.
— А что более капитализировано и коммерциализировано, на ваш взгляд, — индустрия совриска или индустрия так называемого арт-кино?
— Конечно, современное искусство. Ты никогда не получишь таких денег от фильма, какие получишь от продажи картины или объекта топового художника. Ни один Тарковский не сравнится с Дэмьеном Херстом!
— Ваша старая мечта создать «спинозианский» фильм, построенный на репрезентации чистых, доречевых аффектов, уже сбылась? Или еще впереди?
— Нет. Но я все еще хочу осуществить ее.
30 сентября редактор раздела «Кино» Василий Корецкий прочитает лекцию «Новый формализм: куда подевалась реальность?» в рамках лекционного марафона COLTA.RU «Новая надежда. Культура после 17-го».
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости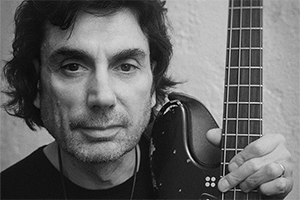 Современная музыка
Современная музыкаНемецкий гитарист-импровизатор, выступающий на фестивале «Джаз осенью», — о влиянии Ника Кейва и новом проекте Bass Totem
12 октября 2021164 Академическая музыка
Академическая музыка Искусство
ИскусствоПрирода между пустотами, шахтами и цифровым взглядом в главном проекте Ярославской биеннале
12 октября 2021212 Литература
Литература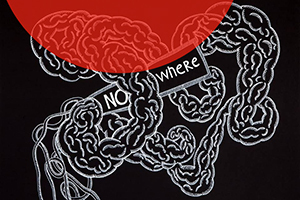 Colta Specials
Colta SpecialsИсторик — о том, как в Беларуси сменяли друг друга четыре версии будущего, и о том, что это значит для сегодняшнего дня
12 октября 2021245 Современная музыка
Современная музыкаЛидер Tequilajazzz о новом альбоме «Камни», выступлении в легендарном рок-клубе CBGB и кинопробах у Алексея Германа-старшего
11 октября 2021391 Академическая музыка
Академическая музыкаВладимир Тарнопольский об открывающемся сегодня в консерватории фестивале современной музыки «Московский форум»
11 октября 20211694 Литература
Литература Литература
ЛитератураГалина Бабак и Александр Дмитриев о становлении формального метода в Украине 1920-х — 1930-х годов
8 октября 2021378 Академическая музыка
Академическая музыка Литература
Литература Общество
Общество