 Академическая музыка
Академическая музыка«Я могу читать партитуру Бизе так, как будто она написана каким-нибудь товарищем Невским»
 © Новое литературное обозрение
© Новое литературное обозрениеРоман Александры Петровой — первый в мировой литературе роман о Риме, который меряет город не золотой цепью тысячелетий, не судьбами династий, даже династий бедных тружеников, но судьбами поколения, от которого до другого поколения — пропасть. Когда от воспоминаний о детстве — пропасть до воспоминаний о Риме, а от этого — пропасть до нынешней жизни в мире: мира существований, не встроенных в строгие борозды знающих себя характеров, но, наоборот, всякий раз искупающих своим характерным страданием бесхарактерность целых поколений.
Петрова исходит из большого времени, в котором ошибка может быть совершена еще не раз через поколение, но не из-за какого-то висящего над родом наказания, а, напротив, из-за разрыва поколений, когда ошибка срабатывает вдруг сама, а не по воле рока. Роман «Аппендикс», страшная сказка с яростной борьбой за жизнь, с небывалой тщательностью исследует, как человек избегает ошибок, если он не сводит себя ни к готовым переживаниям, ни к готовым ожиданиям.
Такой химически чистый анализ самоощущения римлянина, со взвешиванием на аптекарских весах, требует игры слова, когда в слове заиграло третье или пятое значение не от давления контекста, но потому, что только так слово может не только выделиться, но и стать отменным, явив запах, вес и ощутимость. Тогда «путешествие» оказывается сбивчивым путем или шествием в скорбной процессии, «город» — разгороженным обживаемой жесткой мозаикой кварталов, а «эмиграция» — скитанием с устойчивой опорой на временные пристанища. Слова избавляются от поспешных невротических ассоциаций и становятся скорее иконами (или иконками) действий.
Перед нами не вскрытие потаенных значений слов, не гадание по словам о судьбе, не любование глубиной слова в многостраничной игре. Дальше всего проза Петровой от травелогов с их рассматриванием сказанных слов. В травелогах рассказывается о дальних краях действительным и мнимым посвященным, которые знают, как превратить тайну в повод для дружбы. Но травелог основан на недоверии, на отношении не только к туземцам, но и к друзьям как к людям, впустую потратившим свою глубину. У Петровой не так, у нее запас слов и рисков никем не растрачен.
Обычно повествующие о жизни большого города, говоря даже о социальных неурядицах или пытаясь расставить травмы по порядку тяжести, хотят оторваться от земли, сказать: город меня не понимает, но мы, пишущие, в сговоре с читателем точно поймем. Петрова, наоборот, доверяет Риму понять себя: жители криминального района, одержимые своим жребием авантюристы, эротоманы, флибустьеры одного переулка, плакальщицы каждого дня, оторвавшиеся от семей бунтари и прибитые к берегу минимального благополучия взволнованные труженики — это все учителя доверия.
Городу ты уже доверил все, доверил свое тело и свое зрение, свой досуг и свой труд. Ты не можешь уже учиться недоверчивости, потому что все эти уроки окажутся не к месту во всемирном Риме: даже в Вавилоне можно научиться различать интонации различных речей и языков и опознавать намерения жителей. В Риме все начинают говорить в римском духе, духе всемирной открытости, повинуясь при этом жесточайшему закону кары за произвол, которым оказалась вся предшествующая жизнь.
Такой карой будет само воспоминание, в котором нет уже ни капли ностальгии: воспоминание напоминает, что ты живешь уже после невозможности жить. Можно описать эту кару как безъязычие, упирающееся всякий раз в готовые жанры существования: в Риме, даже если ты ведешь переписку со всем миром, все равно чувствуешь, как тебя замыкает в торжественном строе только что отправленного письма.
Но можно пережить эти торжественные моменты как знак своего избранничества, стать новым Энеем, не забывая при этом, что Энею было велено забыть родной язык и обрести латинский язык не только как почву своих мыслей, но и как воспоминание, как ностальгию, как радость и утешение. «Аппендикс» — «Энеида» наших дней: героиня всякий раз сознает, чего не может быть в этом мире, и, перебирая мелочи жизни, образы встреч и милые вещи воспоминаний, всякий раз находит пробоину, тот самый аппендикс, который уже вырезан и о котором можно только говорить.
Такой опыт вовсе не травматичен в привычном смысле, вовсе не опыт расчета со своей травмой или мобилизации душевных сил. Наоборот, Эней, обретая латинский язык, «демобилизуется», уже действует в логике той чести, которую дает ему латинский язык, не терпящий лжи и притворства. Так и здесь демобилизация, обретение Рима как своего мира — это тоже действие внутри чести как внутри ответственности за рассказ, в котором не то что нельзя упустить подробностей — но каждая подробность будет слишком непритворной, чтобы не потребовать поставить рядом какую-то еще подробность. Именно этому служат воспоминания о детстве, данные внутри воспоминаний о Риме.
Повествование Петровой — всегда вторжение in medias res, техника Леонида Добычина, которого Петрова изучила как филолог. Но если Добычин говорит о происходящем удивленно, поражаясь тому, сколь невероятно могут выглядеть обыденный язык и обыденная логика событий, то Петрова говорит без всякого изумления, но с высочайшим напряжением риторической выдержки. Слог романа «Аппендикс» — приподнятый слог, красноречие, в котором низкое и безобразное звучит как скрежещущий стиль определенного времени, а не как плен навязчивых ассоциаций.
Так в античной риторике полагалось говорить о важных предметах перекатывающимся важным слогом, а о нуждах текущего дня — поспешным скрежетом сцепленных слов. Это не приподнятая риторика римлянина Гоголя, обрушивающаяся в сатиру, — Гоголь еще слишком близок был к барочным «концептам» (concetti), в которых низкие описания — необходимый материал для приобретения очистительного опыта, для очищения образным словом ошибок и неправд дела. Это риторика серьезности Рима, всякий раз выходящего на трибуну как он есть, в роскоши и в лохмотьях, с немощным отцом на плече или сопливыми детьми на руках, без очищения, но с робкой уверенностью. Такой Рим — это стиль.
В отличие от романов от первого лица, в которых с самого начала выбирается какая-то техника, будь то гладкая подгонка всех событий под понятное взаимодействие или мозаичная непредсказуемость интересных поворотов действия, в романе Петровой принципиально смешаны разные техники. Так нужно, чтобы подробности не были просто ставками в игре литературы с действительностью, заведомо обреченной на проигрыш.
Подробность оказывается выигрышной в высшем смысле — не в смысле внешнего выигрышного эффекта, но в смысле выигрыша уместности: признания этой уместности героями, счастью или несчастью которых подражает счастливое или несчастное действие романа. Герои никогда не припишут счастливый случай ни себе, ни соседу, ни судьбе; но только будут смотреть, насколько этот счастливый случай свободен для того, чтобы оправдать их дальнейшие действия.
Роман «Аппендикс» разрушает все привычные для нас образы «мировоззрений», «установок», «дневникового самоанализа» — роман не успокаивает нервозность героев мнимым анализом намерений, но разрешает ей вспыхнуть, как лампочки на елке, освещающие темный лес страхов оставленного в одиночестве поколения. Тогда уже можно попробовать на вкус опыт не только своего поколения и ощутить вкус к тысячелетнему Риму.
Александра Петрова. Аппендикс: Роман. — М.: Новое литературное обозрение, 2016. 832 с.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Академическая музыка
Академическая музыка Кино
Кино Общество
ОбществоПочему протест без программы ведет к «украденным революциям»? Как это использует Навальный? И что в этой ситуации делать левым? Текст Олега Журавлева и Кирилла Медведева
19 марта 2021230 Современная музыка
Современная музыка«Божественная комедия» в стиле дрилл: новый концептуальный альбом хип-хоп-проекта «Грязь»
19 марта 2021261 Общество
ОбществоСегодня на Кольте онлайн-премьера одного из лучших отечественных доков последних лет. Нам помогла в этом платформа «Пилигрим»
19 марта 2021282 Colta Specials
Colta Specials Кино
КиноИсторик Олег Бэйда — о «Естественном свете» Денеша Надя, победившего в Берлине с сумрачной зарисовкой венгерской оккупации СССР
18 марта 2021224 Литература
Литература Литература
Литература Искусство
ИскусствоАнастасия Семенович о конфликте вокруг Фаберже и о том, почему Эрмитажу стоит подумать о буфете
16 марта 2021176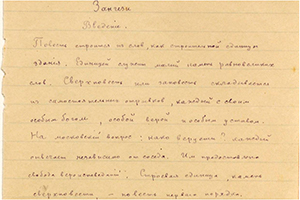 Литература
Литература Кино
Кино