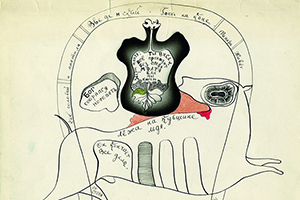 Литература
ЛитератураФилософ и художник: Яков Друскин и Михаил Шемякин
 © Getty Images
© Getty ImagesВышел шестой номер литературного журнала «Носорог», в который вошли тексты папы римского Пия II, Павла Пепперштейна, Марианны Гейде, Ивана Ахметьева, Ильи Данишевского и других. Екатерина Писарева побеседовала с редакторами «Носорога» Катей Морозовой и Игорем Гулиным о литературных институциях, современной поэзии и трансформации романа.
— Нынешний номер «Носорога» — нетематический. Расскажите, в чем различие между номерами, концептуально объединенными темой (маньеризм, животные), и свободно организованными.
Катя Морозова: Раньше мне казалось, что тематические номера всегда даются труднее, поэтому свободные — своего рода отдых, но на деле вышло не совсем так. Когда собирали самый первый «Носорог», старались создать общую — узнаваемую в дальнейшем — атмосферу. Потом придумали сделать тематический номер, посвященный маньеризму. Практически в каждом «Носороге» есть блоки, например, в этом — поэты измайловского круга, но иногда эти блоки разрастаются до темы номера, тогда и получаются так называемые тематические.
Игорь Гулин: Важно не давать ни себе, ни другим никаких обязательств. Если изначально решать, что мы будем делать номер на определенную тему, — это все загубит. Возникает идея, что можно организовать тексты вокруг какого-то сюжета, — хорошо. Нет — еще лучше.
Морозова: До того как мы стали делать «Носорог», я работала в журнале, который был подчинен жесткой схеме: такой конвейер тематических номеров. Читатель всегда следует за редакторской установкой и играет по ее правилам, ограничивая тем самым себя в раскрытии той или иной темы. Из литературных и философских сейчас так функционируют, например, «Логос» и «Транслит». Это всегда какие-то рамки, нам совсем ненужные, так как гораздо интереснее играть с той самой атмосферой, иногда создающей особую цельность номера, которая оставляет читателю большую свободу интерпретаций.
Гулин: Для меня как раз важно, чтобы цельности не было. Чтобы человек брал журнал в руки и думал: «Почему я вижу здесь это? Какое отношение имеют эти тексты друг к другу?» Такое недоумение — залог того, что мы делаем что-то живое.
Морозова: Ну это мы, на самом деле, одно и то же имеем в виду.
— Несмотря на то что это не проговаривается, шестой номер кажется мне объединенным темой памяти, она пронизывает все тексты: от повести «История о двух влюбленных» Пия II через «Тишину» Кирилла Азерного и поэзию измайловского круга до «Автобиографии травли» Ильи Данишевского. Задумывалось ли это изначально или у каждого читающего свои интерпретации и ассоциации?
Морозова: Интересно, что это в таком ключе увиделось. Совершенно не было идеи делать что-то про память.
Гулин: Такая цельность возникает поперек изначальной интенции. Если какая-то тема тебе важна, становится матрицей чтения, то, безусловно, любую сложно-раздробленную конструкцию можно прочесть сквозь нее, например, сквозь вопрос о памяти. Конечно, если номер получается, то тексты вступают в отношения друг с другом — не в тематические, но между ними образуется какая-то система связей...
Морозова: ...порой неожиданная, когда не очень очевидно, что общего между текстами Пия II и Данишевского. Несмотря на то что, на первый взгляд, у них нет общего, в рамках целого связь между ними появляется.
 © Носорог
© Носорог— Большой раздел в этом номере посвящен поэтам измайловского круга, куда вы включили Даниила Да, Николая Барабанова, Ивана Ахметьева, Татьяну Нешумову, Марианну Гейде и Андрея Дмитриева. Откуда возникли эта терминология и это неожиданное объединение людей разных поколений и разных стилистических пристрастий?
Гулин: Как-то мы с поэтом Даниилом Да обсуждали, что есть некоторое количество замечательных авторов, которые живут в районе Измайлово и этот факт так или иначе сказывается на их творчестве. Мы подумали: забавно было бы объединить всех этих поэтов по географическому признаку и представить их как школу. Которой, конечно же, никогда не было. То есть задним числом изобрести некое объединение, создать призрак, фантом из истории литературы. Эти авторы все довольно разные, но когда я начал собирать тексты, то понял, что образуется как раз какая-то странная система связей между текстами. И можно действительно представить их как некий круг. Сначала это был устный эксперимент на февральском вечере в Музее Сидура, а в журнале мы это уже перевели в текстуальный формат.
— Разве сейчас не идет стремление к индивидуализации?
Гулин: Это ведь всё не начинающие авторы, а люди, обитающие в литературе много лет... Идея не в том, чтобы сейчас создать объединение, которое будет такой «боевой группой», захватывающей пространство, — наоборот, спроецировать его в историю. Произвести какое-то действие с целью территориального захвата или, скорее, проникновения не в будущее, а в прошлое.
Морозова: Такая попытка построения альтернативной истории литературы.
— Литературное сообщество все чаще представляется мне неким гетто, где есть определенный круг авторов, которые то и дело возникают то в одном, то в другом журнале: из «Митиного журнала» или «Воздуха», к примеру, попадают в только что созданный «След». Возможно ли появление новых литературных имен из ниоткуда?
Гулин: Конечно, возможно. Во многом мы пытаемся публиковать тех, кто находится хоть немного на обочине. Если представить литературный процесс как систему кругов, колес, то мне, конечно, интереснее авторы, склонные больше к центробежному движению. (Речь именно о механике, а не о конкретной карте пространства.) Но, конечно, когда ты что-то делаешь, то все равно включаешься в эти общие колеса, в постоянный взаимообмен именами, текстами и идеями. С одной стороны, это очень здоровый процесс, значит, есть какая-то живая среда. Но с другой — он превращает все в неразличимое варево, в котором вещи теряют собственный смысл, и хочется как-то обосабливаться.
Морозова: Журнал не может существовать как некий агрегат, постоянно исторгающий новые имена, банально — не найти столько авторов. Мы стараемся, чтобы «Носорог» не дублировал авторов того же «Транслита», «МЖ» — хотя пересечений из номера в номер хватает. Мы стараемся компенсировать это какими-то важными публикациями, создающими смысловые центры разных номеров. У нас были и маньеристский роман Бероальда де Вервиля, и новый перевод «Разысканий одной собаки» Кафки, и впервые опубликованные на русском книга «Число и Сирена» Квентина Мейясу и эссе Джона Берджера «Зачем смотреть на животных?»
— В одном из интервью вы говорили о том, что и журнал «Носорог», и вас лично интересует литература по принципу аффекта. Если включаться в многочисленные дискуссии о новом художественном языке, то какой он, на ваш взгляд? И что может считаться в XXI прогрессивном веке новым — речь, вызывающая аффект?
Морозова: О новом художественном языке говорят так давно...
Гулин: ...и все это ритуальные дискуссии...
Морозова: ...и их очень часто хочется пресечь. Мы еще в первом номере вполне могли бы написать манифест — в рамках традиции молодых литературных журналов и объединений — и рассказать о том, что такое новый язык, по нашему мнению, то есть зачем вообще людям читать непонятный новый журнал, но принципиально не сделали этого. Нас могут, конечно, поймать на том, что принципиальное недекларирование чего бы то ни было уже является манифестом. Но, мне кажется, читая «Носорог», никто не заметит нашего желания избегать каких-то тем или заявлений, значит, нам все-таки удалось избежать пафоса отрицания (как минимум). Но периодически нас все-таки просят что-то объяснить.
Гулин: С этим разговором мы попадаем в очень неприятную ловушку. Мне кажется, что культ новизны, новый язык и в еще большей степени аффект, травма (установка на бескомпромиссную искренность, страстность и мучительность) превратились сейчас в инструменты не столько поиска, сколько институционализации и перераспределения власти в литературном пространстве. Такой террор уязвимости. Понятно, что это вечный динамический процесс, но он сейчас очень заметен. И в этом смысле такие уже полупустые фетиши, как новизна или аффективность, ничем не лучше, чем реализм, духовность, классовая, национальная или гендерная ангажированность. Все — отличные вещи до той поры, пока они не начинают работать как инструменты культурного строительства, возведения границ и пьедесталов. Поэтому хочется создать участок, где не будет об этом никакой речи. Хотя понятно, что если говорить о вкусах, то мы в основном печатаем что-то, худо-бедно попадающее в представление о новаторской литературе.
Морозова: Да, но бывают ситуации, когда наши вкусы сильно противоречат друг другу, и тут необходимо либо идти на компромисс, чтобы сохранить баланс, либо делать то, о чем уже сказал Игорь, — вызывать недоумение по поводу соседства некоторых текстов. Например, в прошлом номере было странное, на чей-то взгляд, соседство поэтов Джона Эшбери и Ивана Овчинникова.
Гулин: Я как раз больше всего ценю вещи, которые немного выпадают из времени, которые не являются чем-то однозначно узнаваемым как новое или, наоборот, классическое. Когда ты думаешь: «К какому времени это относится?», «Почему это вообще написано сейчас?» — для меня это самое интересное.
— Игорь как-то говорил, что романная традиция сейчас умерла и «роман — мертворожденный текст». Но вот вы печатаете частями в «Носороге» роман Павла Пепперштейна «Странствие по таборам и монастырям». Противоречите себе?
Морозова: Мы готовы опубликовать даже реалистический роман, если сочтем, что он впишется в номер. Если Игорь по каким-то причинам считает, что роман изжил себя, это не означает, что мы его не можем публиковать. Начнем с того, что взгляды Игоря на роман я не разделяю. Но при этом — да, у нас ни разу не был напечатан тот «роман», о котором ты, вероятно, спрашиваешь. Были и остаются мысли и идеи о некоторых модернистских текстах, был напечатан протобарочный, маньеристский Бероальд де Вервиль — ну и да, ПП. Но его романы — это ни в коем случае не ортодоксальные романы (при всей для них важности, например, нарратива). Это прекрасные галлюциногенные узоры в романной форме — ну или романы (если говорить о более поздних, в том числе о «Странствии по таборам и монастырям», печатающемся в «Носороге») разогнанного до каких-то сверхскоростей сознания, порождающего тысячи нарративных слоев, закрывающих от читателя понимание реальности, дать которое так важно для романа.
Гулин: Да, я считаю, что роман абсолютно себя изжил, но есть авторы, которые работают с самим феноменом умирания или смерти жанра. Тот же Пепперштейн ведь трикстер. Он же не пишет романы, он создает некие объекты, которые используют эту романную форму как чужую вещь.
— Роман изжил себя? Мне, наоборот, в последнее время кажется, что у романа открылось второе дыхание, — ту же «Маленькую жизнь» Янагихары или «Щегла» Донны Тартт читают и обсуждают везде и всюду.
Гулин: Что это за дыхание? Это ветерок гниения.
Морозова: «Маленькая жизнь» — это ведь что-то вроде «50 оттенков серого». Масскульт волею случая и некоторых волнующих тем стал хитом, неким явлением. И воняет, по мнению условного интеллигента (довольно консервативного!), именно такой роман, а не весь жанр. Мне ближе менее апокалиптический настрой, нежели у Игоря, и я скорее готова согласиться, что роман серьезно болен. И вопрос — преодолим ли кризис? Возможно ли выздоровление? Очевидно, что функцию романа XIX века (по крайней мере, в американском варианте) теперь выполняют сериалы. Там есть абсолютно выдающиеся образцы, объясняющие современного человека и общество не хуже, чем когда-то Бальзак. Логичный вопрос: зачем тогда нужен тот же американский роман, осуществляющий примерно ту же деятельность, только другими средствами? Возможно, все совсем плохо и это — всего лишь логика работы рынка досуга и развлечений для культурного представителя капиталистического общества.
Гулин: Тут надо определиться, что значит, что роман жив. Если мы смотрим на то, что выходит на бумаге и продается в ларьках, то, безусловно, с романом все отлично. Об этом недавно очень хорошо говорила в интервью Мария Степанова. Есть приятные для потребления искусства, которые на свой комфортный манер могут говорить о важных вещах, типа «о жизни и смерти»: есть детективы, есть сериалы, есть комиксы (я вот очень люблю), есть Франзен с Янагихарой. При этом в сериалы может прийти Линч и навести шороху. Но в то, что подобное может произойти сейчас с романом, я не очень верю. Сериалы — относительно молодое искусство, может возрастать, а романы — уже только умаляться. Но могут, конечно, умаляться с приключениями...
Морозова: Линч не только прямо сейчас наводит шорох в жанре, он это уже делал в 90-е, и, как принято считать, именно он и способствовал становлению того типа телевидения, за которым все следят с бóльшим интересом, чем за романами. Сейчас мы снова наблюдаем, как он ломает подпорки и все рушится. Возможно ли такое с романом? Твой аргумент — о возрасте, якобы сериал молод, а роман стар. Но по-настоящему стар европейский роман, а это, по сути, — отдельный жанр. Социолог литературы Франко Моретти пишет о центре и периферии литературной системы: романы, возникшие на периферии, — это компромисс между (в основном английскими и французскими) формами и местным, национальным материалом. То есть романы так называемых второстепенных литератур — это уже нечто совершенно иное. Это очевидно молодой жанр, в недрах которого можно разглядеть знакомую матрицу. Так же как и в «Твин Пикс» можно найти логику развития сюжета условной мыльной оперы, на материале которой в том числе он возник (что и обыгрывается с помощью «Invitation to Love», которую смотрят персонажи). Ну а если предположить, что молодой жанр еще готов к трансформациям, то логично этого ждать от неких романных гибридов, рожденных преимущественно в XX веке. Я с интересом слежу за национальными литературами — например, за венгерской, откуда вышли одни из важнейших писателей конца XX века (я к таковым отношу Петера Надаша). Почему-то кажется, что подобный расцвет возможен — если применить к сегодняшнему дню Моретти — при дальнейшем отдалении от западных центров былой романной славы.
Гулин: Но Моретти ведь пишет про XVIII—XIX—ХХ века. Это другая ситуация. Есть определенные формы культуры, производства, идеологии, социальности. Они как-то эволюционируют, распространяются по миру. Отдельные люди участвуют в этих распространениях своими приключениями. И роман это отлично описывает. То есть описывает определенный способ пристежки личности к истории. Каким бы экспериментальным роман ни был, в глубине его все равно есть ставка на то, что эта модерновая модель истории в какой-то мере актуальна. А она уже совсем не работает. Мы живем в глобалистской всепроницающей связности (а роман требует разделенных пространств, перемещений) и одновременно — в полной непрозрачности, недоумении относительно того, что, собственно, движет эту нашу историю. Нет пресловутых «больших нарративов», гарантирующих роман, в том числе и романы малых национальных литератур, о которых ты говоришь. Сейчас в эту «большую историю» можно только играть, натягивать ее, как старый костюм, делать это даже с некоторым остервенением. И вот это остервенение — содержание большей части русских мейнстримовых романов. Но оно интересно скорее как симптом, чем собственно как высказывание. То есть роман скорее мертв в том смысле, что он не способен ничего сказать про человека. Я не знаю, нужно ли о нем говорить, может быть, нужно помолчать или говорить про грибы и пауков. Но роман претендует именно на это: на истину о состоянии человека.
Морозова: Но эта глобалистская связность, в которой мы живем, существует благодаря капиталистической модели общества, на самой заре которого и зародился роман. Можно связывать его смерть со смертью существующей формации, но ее финала мы как раз, увы, сейчас не наблюдаем. Можно ожидать очередного коллапса, разгона до предела и схлопывания (вместе с, возможно, и романом), но пока можно констатировать очевидное продолжение. Но вообще в таком безнадежном состоянии отсутствия «большой истории» при присутствии капитализма вся надежда на то, что миром все же управляет — по Мейясу — случайность. И нет причин не предположить возможного наступления чего-то, чего не было или нет сейчас. Равно как и завершения существующего.
— Игорь, исключений нет?
Гулин: Есть, как я уже говорил, прекрасные авторы, которые по-разному работают с этой ситуацией. Таким был Зебальд. Таковы два лучших русских романа последнего десятилетия: «Фланер» Кононова и «Любовь Муры» Байтова. Ну и, конечно, есть мой любимый Антуан Володин. Все его романы как раз написаны из постоянно растягивающейся, но бесповоротной точки краха. И это смерть не только человека и человечества, не только определенного типа истории и политики, но и литературы, судьба которой связана с этой историей и политикой.
Морозова: Для тебя роман — будто травма. Хотя кажется, что это травма всей современной литературы. Но ведь есть способ эту травму перестать вытеснять, осознав, что именно реакция на нее определяет специфику современной литературы.
Гулин: Да, конечно, роман — это такой мертвый отец. Мы все ходим вокруг этого трупа, боимся и надеемся, что вот он пошевелится, вздохнет, скажет, что-нибудь или вообще встанет и сядет с нами за стол — как у Бруно Шульца или в «Стране приливов» Гиллиама (хотя там довольно разные версии застолий). И все мы неизменно пишем в свете его призрачной власти. С этим неврозом, например, замечательно работает прозаик Стас Снытко, наш друг и третий редактор «Носорога». Конечно, нельзя просто от всей этой проблематики отмахиваться. Но надо попробовать понять природу этой власти и этого фантазма.
— Возвращаясь к журналам: как вы считаете, могут ли толстые литературные журналы быть институцией, верифицирующей статус писателя в сообществе?
Гулин: Мне кажется, да, но это и для журналов, и для писателей — плохо.
Морозова: Все-таки верификацией в некоем мейнстримном литературном мире занимаются далеко не толстые журналы. Это какая-нибудь условная «Большая книга».
Гулин: Это же вопрос масштаба. Влияние премий имени Белого, Драгомощенко и «Различия», «Воздуха», «Носорога», «Транслита» меньше, чем у «Большой книги» с АСТ. Но и те выглядят ничтожно рядом с «Золотым граммофоном», а принцип один. То есть в любом случае литературные институции перераспределяют капитал, пусть только символический, создают репутации. И, конечно, какое-то удовольствие от занятий литературой, в том числе и от создания журнала, можно получать, только если зажмуриться и притвориться, что ты к этому отношения не имеешь.
— Но ведь литература премиального сегмента, если посмотреть выкладки в крупных книжных магазинах, попадает на полки первой и формирует вкус массового читателя...
Гулин: Мне кажется, это машина, которая вот-вот сломается. Я понимаю, что я не Левада-центр, но, по моим наблюдениям, премиальную прозу действительно читали в двухтысячных, в ней искали какие-то диагнозы и предсказания, которые она оказалась неспособна дать. Сейчас среди среднего слоя интеллектуальной публики никто этого уже не читает. Не то чтобы все кинулись читать «Митин журнал», скорее, читают нон-фикшен. И, мне кажется, это значит, что вся механика премиального процесса и подстроенные под нее издания работают на автомате, уже почти в пустоте. Дают премии, пишут рецензии, лауреатов раскладывают в магазинах, но это уже почти никого не интересует.
Морозова: Чтобы подтвердить твои слова, нужны какие-то статистические выкладки.
Гулин: Да, это скорее мои неавторитетные наблюдения... Но у вас нет ощущения, что сейчас не то чтение, что, условно, десять лет назад даже? Скажем, Лев Данилкин с восторгом писал про все эти романы, люди читали статьи Данилкина и бежали покупать книжки. А сейчас уже даже ему это стало неинтересно — все бегут с корабля.
Морозова: Не уверена, что соглашусь. Если исходить уже из моих неавторитетных наблюдений, то люди, которых мы можем назвать, скажем, представителями культурной интеллигенции, не просто постоянно что-то читают, но и регулярно высказываются о прочитанном (прослушанном, просмотренном, неважно). Масса примеров, как медийные персоны заводят телеграм-каналы для того, чтобы делиться своими читательскими впечатлениями. И удивительным образом люди тысячами это читают. Эти любительские книжные обзоры от условных знаменитостей — судя по всему, наиболее живое из того, что есть в литературной журналистике. Все старания профессиональных критиков и обозревателей порождают пустоту, и читатели, скорее, ориентируются на них по какой-то слепой инерции. Механизм литературной критики, направленный на культурного потребителя, который запустился лет пятнадцать назад и о котором ты сказал, как будто еще работает, но вхолостую. Но тут можно сделать еще один виток разговора и заявить, что мертва вся наша местная культурная журналистика. Не уверена, что стоит сейчас в это углубляться.
— Вы вот упомянули третьего вашего редактора — писателя Станислава Снытко. Как распределяются обязанности между вами и как вы коммуницируете и работаете над «Носорогом», если географически живете в разных координатах?
Гулин: Во-первых, Стас сначала был нашим постоянным автором, мы целых два раза его напечатали (то есть больше, чем кого-либо). А во-вторых, он был одним из создателей закрывшегося журнала «Русская проза», которым мы с Катей сильно вдохновлялись. Так что логично, что мы позвали его редактором. Он сейчас в Калифорнии, Катя живет между Венецией и Москвой, мы немного рассеялись, но это не играет никакой роли.
Морозова: И такой длительный перерыв — новый номер вышел почти через полгода после предыдущего — связан, конечно, не с нашими пространственными перемещениями, а, в первую очередь, с проблемой сбора средств на печать.
— Как вы договариваетесь, что пойдет в номер и какие авторы будут опубликованы?
Морозова: У нас теперь коллегиальное принятие решения по каждому тексту, мы голосуем, иногда ругаемся.
Гулин: Выработали вот строгую демократическую систему — анархия проиграла. На самом деле, анархия только слегка отступила на один шаг...
Морозова: ...но продолжает властвовать над всем, кроме голосования.
— В нынешнем номере «Носорога» всего 12 имен, 12 авторов. Как они возникли в вашем поле зрения?
Морозова: Нам довольно часто присылают что-то в редакторскую почту. Скажем честно, работать таким образом у нас не выходит. Мы редко берем авторов, приходящих к нам из ниоткуда. Для эффективности такого рода деятельности журнал все-таки должен быть больше институционализирован, иметь более четкую схему производства. Но при этом почти магическим — случайным — образом к нам попадают настоящие сокровища: например, переводы современной иранской поэзии или вот — через комментарии в Фейсбуке — новелла Пикколомини в замечательном переводе филолога-латиниста Романа Шмаракова. Вот эта вот случайность, контингентность, хочется верить, и определяет функционирование нашего «Носорога».
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости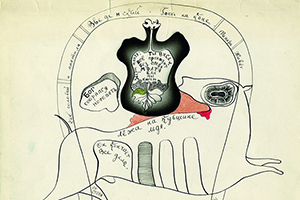 Литература
Литература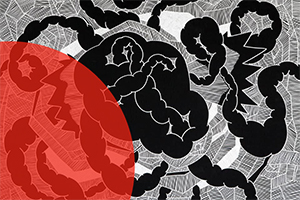 Colta Specials
Colta SpecialsПоэтесса Наста Манцевич восстанавливает следы семейного и государственного насилия, пытаясь понять, как преодолеть общую немоту
20 января 20222528 Искусство
Искусство Искусство
Искусство Молодая Россия
Молодая РоссияРассказ Алексея Николаева о радикальном дополнении для обработки фотографий будущего
18 января 20221883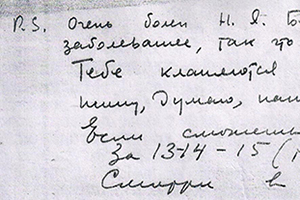 Литература
Литература Общество
Общество Искусство
ИскусствоКуратор Алиса Багдонайте об итогах международной конференции в Выксе, местном контексте и новой арт-резиденции
17 января 20222222 Академическая музыка
Академическая музыка Искусство
Искусство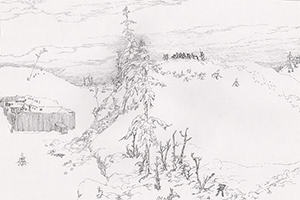 Литература
Литература Общество
Общество
Андрей Мирошниченко о недавнем медиаскандале, который иллюстрирует борьбу старых и новых медиа
13 января 20225402