 Colta Specials
Colta SpecialsАнтон Нечаев: «Широкий спрос на искусство только начинает формироваться»
Как работает новый маркетплейс современного искусства Bizar? Рассказывает один из его создателей
1 ноября 2021274 © Павел Зальцман
© Павел Зальцман«Живые картины» — первая книга прозы Полины Барсковой. И это, кажется, лучшая русская проза, написанная за последние много лет.
Формально в книге собраны скорее рассказы, скорее повести (что бы ни значило это слово) и даже одна пьеса, но на самом деле она представляет собой цельный, тщательно выстроенный длинный нарратив: так выглядел бы русский роман, если бы его взяли живым на небо — однако и в этом случае, боюсь, вещество его не смогло бы сгуститься в субстанцию такой режущей хрупкости, такой стеклянной прозрачности и такой обжигающей ясности, как субстанция этой книги.
Формально перед нами, как пишет Марк Липовецкий, «своего рода продолжение поэтического цикла Барсковой “Справочник ленинградских писателей-фронтовиков: 1941—1945”». Точно так же, как в этом цикле (и в других поэтических текстах), автор работает здесь с блокадой, с историей блокады и с историями блокады. Невозможно, однако, не задаться вопросом: а зачем в таком случае Барсковой понадобилась проза? Трудно представить себе, что поэзия обладает недостаточным (вообще меньшим) инструментарием, арсеналом средств, предназначенных для решения тех задач, что ставит себе автор, — или, лучше сказать, тех, что встают перед ним. Но нет, так не годится: речь не о задачах, которые нужно решить, и не о вопросах, на которые нужно ответить. Скорее о чем-то, с чем нужно справиться — или хотя бы как-то иметь дело. Поэзия для этого приспособлена, в общем, лучше — но «Живые картины» стали книгой прозы.
Формально «Живые картины» — это книга о прошлом. Но, вглядевшись в нее, мы обнаруживаем, что прошлое здесь — не главный герой и тем более не пространство для более или менее изощренной сценографии. Прошлое в этом тексте — антагонист самой книги, точнее, письма, пытающегося совпасть с самим собой, очутиться в настоящем полностью, случиться. Но в русском языке случается гораздо меньше, чем происходит. А «происходит» не то чтобы отсылает носителей языка к определяющей их (нас) истории, а просто без разговоров сопровождает (топай давай, чего встал!) — под вооруженным конвоем.
Поразительнее всего то, как в «Живых картинах» устроено сосуществование автобиографического нарратива с историческим. Они не переплетаются — вместо этого автор (хотел написать «сшивает», но нет) проращивает один в другой. Самое удивительное — что это получается, что в итоге возникает не химера, а гибрид: почти гомогенное повествование о себе в истории и об истории в себе. Швы были, но давно заросли, затянулись. Однако их неосязаемость (в сочетании с видимостью, visibility) как раз и напоминает о том, что они — нет, не были — есть. Эта книга фиксирует — нет, не фиксирует, свидетельствует — трансформацию идентичности. Она — о появлении нового, другого человека (и автора). Но не только о: в каком-то смысле она и есть эта трансформация, одновременно ее (свой собственный) объект, субъект и инструмент.
Естественно предположить, что такая конструкция обязана быть чрезвычайно герметичной. Однако, напротив, она максимально разомкнута в идентичность коллективную, в социальную память, в антропологические по природе и смыслу практики. «Живые картины» выходят далеко за пределы индивидуального опыта переживания индивидуальной травмы или даже индивидуального опыта переживания истории, оказываясь утопическим (в каких-то своих, человеческих масштабах) проектом работы с общей травмой и общим опытом. Блокада для автора — пространство беспощадной неповторимости и беспощадной же общности, собственно, она является местом окончательной встречи человеческого и нечеловеческого в человеке. Местом, где человеческое бесконечно мучительно определяется относительно нечеловеческого, того, что, как говорит Барскова в интервью А. Тихоновой, «сейчас <...> сделает зверями, а потом убьет» людей, населяющих эту книгу. Определяется через разрыв с собственной природой.
Это в одиночку предпринятое автором исследование на предмет того, возможно ли возникновение новой идентичности после переживания возвышенного исторического опыта, относящегося к здешней недавней истории.
Книга эта — также и место встречи ее автора со своими героями: с Дмитрием Евгеньевичем Максимовым и Мариной Малич, с Яковом и Михаилом Друскиными, с Евгением Шварцем и Виталием Бианки, Пикассо и Аршилом Горки. Но среди великих — нет, даже не великих, а просто теней — ходят на тех же правах персонажи уже личной истории автора. «Живые картины» оказываются инструментом памятования — «читатель становится архивом для того, чтобы произвести новых читателей». Назначение его — в обретении целостности, то ли утраченной, то ли еще не бывшей: «тоска — томление — прелесть архива: ощущение головоломки, мозаики, как будто все эти голоса могут составить единый голос, и тогда сделается единый смысл, и можно будет вынырнуть из морока, в котором нет ни прошлого, ни будущего, а только стыдотоска — никто не забыт, ничто не забыто — никому не помочь, а забыты все». Кажется, что собственная целостность требует здесь даже не мимесиса, а чуть ли не апокатастасиса: чтобы освободиться от того, прежнего, мира, его придется оживить, восстановить. Это не совсем так — а скорее даже совсем не так: Барскова говорит о прелести, о соблазне.
Нечто похожее происходит будто бы и с личной историей, где место «восстановления» занимает прощение: недаром «Прощателем» книга открывается. Но при этом «жизнь превращалась в заколдованный спешкой чемодан: кроме работы прощения, туда уже ничего не помещалось. Прощение как-то неловко преломлялось, изгибалось и становилось чуть ли не томлением по прошедшему». И далее: «работа прощения вытеснила любовь наслаждение понимание болезни она вытеснила язык вернее она заключалась в постоянном производстве собственного языка единственного / Тот, кто занят работой прощения, является моноглотом». Я цитирую этот фрагмент как поэтический текст потому, что в нем автор вдруг забывает о синтаксической разметке: прием, нормализованный современной поэзией, но в этой прозе эквивалентный пожалуй что крику.
Здесь особенно важно замечание о прощении, преломляющемся и становящемся «чуть ли не томлением по прошедшему» — несмотря на то что привычная психологическая прагматика прощения заключается не в образовании новой связи, но, наоборот, в отсечении старой. Прощение, собственно говоря, и было когда-то «отпущением», разрывом (см. английское «let go»). Но вот новая зависимость, возникающая при совершении «работы прощения», отпущения, — вполне, на первый взгляд, неожиданна. Однако именно здесь, как представляется, и нужно искать, например, ответ на вопрос о том, зачем автор затевает игру, в каком-то смысле довольно рискованную, с неосязаемостью (но не невидимостью) переходов от личной истории к «большой» и обратно. Игра эта не самоценна, она является для автора способом сообщить нам нечто важное о сходстве переживания личной травмы и истории, а точнее, о том, что переживания эти в своем роде изоморфны.
Термин «переживание истории» в предыдущей фразе требует уточнения, за которым я призываю читателя обратиться к работе теоретика историографии Франклина Анкерсмита «Возвышенный исторический опыт». Анкерсмит различает три разновидности исторического опыта: объективный, субъективный и возвышенный. О последнем он пишет, что, в отличие от субъективного, тот «не является переживанием дистанции между прошлым и настоящим и не предполагает обязательного ее наличия. Ситуация тут скорее обратная, так как прошлое обретает бытие лишь благодаря историческому опыту и через его посредство. <...> Прошлое рождается из травматического опыта историка, вступающего в новый мир и сознающего бесповоротную утрату прежнего мира. Тогда его сознание оказывается сценой, на которой разыгрывается драма мировой истории». Далее Анкерсмит пишет о том, что в возвышенном историческом опыте есть лишь опыт: «если эта согласованность прошлого и нас, и наших чувств, внезапно реализовалась в историческом опыте и его посредством, то все, что относится к нам и к прошлому, тут же будет поглощено осью, объединяющей прошлое (объект) и настоящее (субъект). В такой момент все, что за пределами этой оси, — будь то наше личное прошлое или художественно-исторический контекст <...> — для нас уже не существует и не имеет смысла».
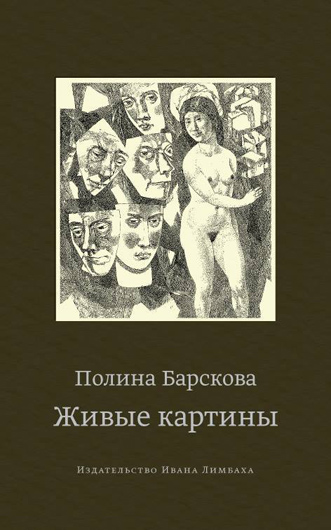 © Издательство Ивана Лимбаха
© Издательство Ивана ЛимбахаНекоторым образом книга Барсковой представляет собой свидетельство о том, что Анкерсмит называет возвышенным историческим опытом, — или, по крайней мере, попытку такого свидетельства, которое обречено, разумеется, в холодном высшем смысле на неудачу или на неуверенность в удаче, поскольку язык здесь всего лишь «служит подобием туннеля, побуждая нас заглянуть внутрь и сфокусироваться на том, что находится в конце или, точнее, уже за его пределами». Барскова во многих местах буквально вторит Анкерсмиту. Так, ее «томление — прелесть архива», предощущение возможности вынырнуть из морока, «в котором нет ни прошлого, ни будущего, а только стыдотоска», у Анкерсмита разворачивается в подробное рассуждение о скуке, из которого имеет смысл привести хотя бы небольшой фрагмент: «скука и завороженность сперва кажутся диаметрально разнонаправленными. Однако парадокс исчезает, стоит распознать в завороженности томительное предвестие грядущего слияния субъекта и объекта и отсутствие страстного желания, чтобы оно исполнилось. Очевидно, что в состоянии завороженности такое желание может быть необычайно сильным именно потому, что заложенное в нем обещание еще не исполнено. А это провоцирует сознание недостижимости объекта и, таким образом, скуки. Мы никогда не бываем более восприимчивы к желанию слиться с реальностью (источник завороженности) и к ее конечной недоступности (что порождает скуку), чем в те моменты, когда это слияние кажется близким, неизбежным и естественным».
Предельная близость оборачивается предельной недоступностью.
Огонь, полыхающий в сердцевине «Живых картин», поддерживается сосуществованием в одном небольшом пространстве необходимости отказаться от прежнего мира (и прежнего «я») ради обретения нового — и необходимости удерживать в новом «я» память о том, что этот отказ состоялся. Прежнее можно забыть, но факт разрыва забыть невозможно — и нельзя, поскольку он лежит в основе новой идентичности. Возвращаясь к разговору о прощении, который мы на полуслове бросили несколькими абзацами выше: простить, отпустить, возможно — однако прощание с отпущенным должно остаться с тобой до конца.
Говоря словами Анкерсмита: «возвышенное во многих, хотя и не во всех, отношениях является философским эквивалентом психологического понятия травмы». Однако «нам следует различать два вида травмы: с одной стороны, есть травма <...>, которая при всей своей драматичности оставляет идентичность невредимой, с другой стороны, имеется травма <...>, которая предполагает переход от прежней к новой идентичности. В последнем случае травматическая утрата поистине является утратой (прежнего) самого себя. А что может быть больше такой утраты, максимально приближающей нас к смерти?» В первом случае «правдивая история о травмирующем прошлом может в конечном счете привести к примирению травматического опыта и идентичности», но во втором «примирение немыслимо», прежняя идентичность никуда не уходит. Здесь «человек стал тем, кем он больше не является <...>. Кем он был раньше, его прежняя идентичность — все это теперь трансформировалось в идентичность человека, который знает о своей прежней идентичности (но больше не совпадает с ней). Он исключил (часть) прошлого из своей идентичности и в этом смысле забыл его. Но он не забыл, что забыл его».
Говоря словами Барсковой: «смысл всей затеи — не дать чужому времени смешаться с временем, которое ты несешь себе, в себе». И далее: «прелестью для прощателя является та власть, которою обладает над ним прошлое зияние, беда, темнота. По-русски нет слова survivor — тот, кто выжил, кто вернулся. Вот я сейчас и пытаюсь придумать слово, создать-передать существо, а главное, процесс-способ сожительства с памятью о пережитом». Выживший оказывается вы-жившим, только если помнит, откуда. Именно этой пространственной диспозиции — важной, кажется, подразумевающей перемещение через границу, вы-ход, — survivor (от лат. supervivere, т.е. пере-жить) лишен.
Таков механизм прощения — по крайней мере, в случае именно этой личной истории: новое возможно, только если оно осознает и удерживает в себе памятование (т.е. активную, живую память) разрыва с прежним. И именно для этой личной истории он совпадает с механизмом, лежащим в основе анкерсмитовского возвышенного исторического опыта, который «есть опыт обособления прошлого от настоящего», опыт непрерывного самостановления, разрывающегося между припоминанием и забвением. Вот почему прощение — как и бытие-в-истории — занимает «целую жизнь», в которую ничего больше не помещается. Скоро я прощу тебя, говорит автор. Автор говорит правду; и прощение из личной истории, и забвение разрыва из «большой» могут случиться только скоро. Скоро, когда мы добежим — вон же, рукой подать — до горизонта событий — как Михаил до Литейного. Скоро, когда мы тоже остановимся отдышаться, а во рту у нас будет сухо и холодно. Механизм не сломан — он так работает.
(Вот зачем понадобилась проза. Поэзия — слишком ненадежное средство, когда пойманный лисенок навсегда поселяется у тебя за пазухой.)
«Живые картины» — это не книга о прошлом, о блокаде, о Марине Малич или об Аршиле Горки; и это не книга о Полине, которая при этом, да, является одним из ее главных действующих лиц. Это в одиночку предпринятое автором исследование на предмет того, возможно ли возникновение новой идентичности после переживания возвышенного исторического опыта, относящегося к здешней недавней истории. Существует ли вообще жизнь там, где разрыв с этой историей произошел, был пойман, удержан и приручен хотя бы отчасти. Экспедиция в составе одного человека неизбежно становится делом личным, но слишком личным, чрезмерным, уже не помещающимся в тесные рамки личной истории — и, выходя за них, становится событием истории общей, как «Живые картины», первая книга прозы Полины Барсковой.
Полина Барскова. Живые картины. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2014. 176 с.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Colta Specials
Colta SpecialsКак работает новый маркетплейс современного искусства Bizar? Рассказывает один из его создателей
1 ноября 2021274 Общество
Общество Кино
Кино Молодая Россия
Молодая Россия«Включать стримы сегодня смысла нету. Везде будет про эту гребаную свадьбу Путина-младшего и дочери Навального». Рассказ Евгения Больдта
29 октября 20211287 Кино
Кино Театр
Театр Современная музыка
Современная музыкаЧулпан Хаматова, Никита Ефремов, Пахом, Марина Абрамович, Нани Брегвадзе и другие в комедийной музыкальной сказке от группы akyn machine
29 октября 2021320 Colta Specials
Colta Specials Литература
Литература Общество
ОбществоДенис Куренов поговорил с известной журналисткой и исследовательницей цифровых свобод об атаке модерации в соцсетях на пользователей
28 октября 2021199 Современная музыка
Современная музыкаПосвящение любимым музыкантам и дуэт с одним из них на новом мини-альбоме группы Яны Смирновой
28 октября 2021446 Искусство
ИскусствоФилософ Оксана Тимофеева о выставке Хаима Сокола «Превращение как форма сопротивления»
27 октября 2021245