 She is an expert
She is an expertПочему нам пора собрать демократический феминистский форум

Представленный сборник включает в себя тексты весьма разных по своей политической и интеллектуальной ориентации авторов — более того, авторов, обращавшихся к принципиально различным аудиториям, представленных текстами разнообразных жанров, от частного письма до памфлета. Подобная разнородность, надобно полагать, и определила заглавие сборника — «патриотическая мысль» оказалась максимально общим и в силу этого неопределенным понятием, позволяющим включить под одну обложку Белинского и Каткова, Аксакова и Суворина, Гогоцкого и Скрынченко, Розанова и Струве.
Если попытаться конкретизировать использование данного понятия составителем, то под patri'ей понимается «большая русская нация» — независимо от конкретных идейных позиций, все представленные авторы являются сторонниками и защитниками данного национального проекта и соответственно противниками украинского. В данном случае необходимо остановиться на природе противостояния — как отмечает А.И. Миллер в ставшей уже классической монографии по истории «украинского вопроса», «<…> восприятие украинского и белорусского, в той мере, в какой последнее проявляло себя, национальных движений в корне отличалось от восприятия других национальных движений в империи. Борьба с другими национальными движениями была борьбой за сохранение целостности империи. Борьба же с украинским движением непосредственно касалась еще и вопроса о целостности русского народа (для тех, кто верил, что триединая русская нация уже существует) или о том, какие территории и какое население составят то ядро империи, которое предстояло консолидировать в русскую нацию (для тех, кто отдавал себе отчет в том, что большая русская нация представляет собой только проект)». Иначе говоря, данные национальные проекты оказывались непосредственно конкурирующими друг с другом — в своей последовательной формулировке они не допускали компромисса, реализация одного представала как исключающая другую.
Сразу же отметим, что получить полное представление о спектре мнений относительно «украинского вопроса» со стороны приверженцев «большой русской нации» невозможно — составитель явно отдавал предпочтение радикальным высказываниям, отбрасывая компромиссные. Так, например, в сборник включен фрагмент из известного письма В.Г. Белинского П.В. Анненкову от 1—10.XII.1847 г. о Шевченко и деле Кирилло-Мефодиевского товарищества, но остались в стороне отзыв А.С. Хомякова из письма к Ю.Ф. Самарину от 30.V.1847 г. на ту же тему или известная, воспроизведенная, в частности, в 1-м томе посмертного Собрания сочинений Ю.Ф. Самарина дневниковая запись последнего, вызванная чтением изложения истории Малороссии П.А. Кулиша, составленного для «Звездочки», журнала для детского чтения, в котором были обнаружены сепаратистские высказывания. Аналогичным образом в тексте даны тенденциозно подобранные статьи И.С. Аксакова — тогда как не только уже упомянутый выше П.А. Кулиш был близок к аксаковскому семейству во 2-й половине 1850-х годов, но и, что гораздо существеннее, «Черная рада», роман, которому он сам придавал особенное значение, был опубликован в русской версии на страницах славянофильской «Русской беседы», и в том же журнале вышло послесловие (в книжном варианте ставшее предисловием) к роману, имевшее характер «манифеста» движения (данному тексту Кулиш стремился придать коллективный характер, отсылая черновую рукопись в Малороссию для редактуры и замечаний).
Разумеется, приведенные только что подобности не изменяют принципиальной позиции сторон — доведенный до логического предела украинский национальный проект, как и всякий проект подобного рода, предполагает достижение политической независимости, аналогично — сторонник проекта «большой русской нации» не может, не впадая в противоречие с самим собой, принять и разделить подход украинского националиста. Дальнейшая судьба отношений славянофилов с украинофилами как раз и демонстрирует непреодолимые разногласия — но не менее важно и то обстоятельство, что для обеих сторон при радикально различном понимании идеальной конечной цели (к тому же нередко не формулируемой отчетливо или формулируемой принципиально неполитическим образом) не только не исключалась, но нередко и целенаправленно искалась область взаимодействия, согласия по конкретным вопросам — в предположении, например, что сам ход времени приведет оппонента к перемене позиции, сделает неактуальное сейчас разногласие по поводу конечной цели снятым в силу изменения самой цели.
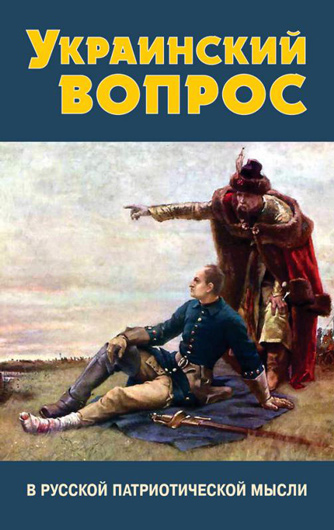 © Книжный мир
© Книжный мирВ связи с этим стоит заметить, что радикализм противостояния имел существенные пределы со стороны защитников проекта «большой русской нации» — поскольку если «украинский» проект прямо противоречил ему, то полнота ассимиляции и гомогенизации оставалась спорным вопросом и для политиков, и для публицистов. Так, в 1863—1864 гг. И.С. Аксаков расходился с М.Н. Катковым не по вопросу о том, представляет ли украинофильство опасность для русского проекта, — а в том, какова должна быть правильная реакция на эту опасность, полагая, что жесткие запретительные меры способны скорее стимулировать движение, чем подавить его. Уже в 1881 г. М.Ф. Де-Пуле в «Русском вестнике» будет не только полемизировать с Н.И. Костомаровым, в 1880 г. выпустившим ряд публикаций, призванных поддержать пересмотр «Эмского указа», но и одновременно будет активно предлагать иную трактовку «русскости» как «общего дела», подчеркивая вклад малороссов, т.е. он выдвигал на передний план «общерусский» характер национального единства (стр. 248—249) — тезис, который найдет радикальное выражение уже в эмиграции, у Н.С. Трубецкого, интерпретировавшего высокую российскую культуру как плод преимущественно малороссийского влияния (стр. 420—444). Уже в эмиграции Н.И. Ульянов в знаменитом «Происхождении украинского сепаратизма» будет последовательно симпатизировать взглядам М.П. Драгоманова, положительно отзываться о проекте территориальной (а не национальной) федерации и т.д.; Драгоманов предстанет настолько положительным (в оптике автора) героем, что, радикально осуждая «фонетическое правописание» (стр. 701), Ульянов противопоставит тех, кто его вводил, Драгоманову (стр. 697) — несмотря на то что именно он был одним из наиболее жестких сторонников данной языковой реформы.
Таким образом, важно не отвержение украинского национального проекта (приверженность идее «большой русской нации» автоматически означает подобную позицию), а пределы согласия, центральные пункты напряжения, возможные границы уступок и т.п. — то, что придает спору динамичность и исторический характер.
При всех оговорках сборник хорошо отражает эпизодический характер обращения русской «патриотической» (сохраним понятие, избранное составителем) мысли к «украинскому вопросу». Применительно к совсем иному материалу, анализируя подготовку сенатора А.А. Половцова к ревизии киевского генерал-губернаторства (в рамках деятельности т.н. кахановской комиссии), А.И. Миллер отмечал, что Половцов, ранее совершенно не знакомый с ситуацией в тех губерниях, встречался с многими петербургскими сановниками, могущими сообщить ему потребные сведения:
«В своих обстоятельных беседах с Половцовым, которые он прилежно фиксировал в своем дневнике, никто из них, равно как и Каханов с Лорис-Меликовым, совсем недавно оставившим пост харьковского генерал-губернатора, даже не упомянул об украинской проблеме. Когда речь заходила о национальном вопросе, все внимание было сосредоточено на поляках. Это лишний раз свидетельствует о принципиальном различии в подходе властей империи к украинскому и польскому вопросу. Если последний неизменно был в центре внимания, то первый возникал на повестке дня от случая к случаю и после принятия очередного указа исчезал из поля зрения высших петербургских бюрократов на годы».
Аналогичную «пульсацию» можно отчетливо выявить в собранных текстах — «украинский вопрос» попадает в столичную оптику эпизодически, порождая запрос на соответствующие тексты.
Первый всплеск приходится на конец 1830-х — 1847 гг. Впрочем, эта часть полемики в сборник практически не попала, что вполне закономерно, поскольку позиции сторон находились еще в процессе формирования, журнальные дебаты по поводу литературы малороссийской отличались сочетанием разнородных позиций — как уже принадлежащих языку национализма, так и явно находящихся еще в рамках донациональных понятий, как в случае с мнениями Н.И. Греча, Г.Ф. Квитки или М.А. Максимовича.
После паузы, предсказуемо вызванной для украинофилов делом Кирилло-Мефодиевского общества, а для большей части публицистики — сначала «мрачным семилетием» цензуры, а затем первыми годами царствования Александра II, когда прежние идейные границы оказались стерты и общественное мнение быстро перестраивалось в новых условиях, — украинофильство попадает в фокус внимания с конца 1850-х, сначала встреченное благоприятно, как одно из либеральных движений, а затем все более негативно — по мере того как консолидируются позиции сторонников «большой русской нации» и как для центральной администрации становится (в том числе благодаря усилиям местных, малороссийских деятелей) различима угроза, представляемая украинофилами. В этот период реакция отличается относительной гибкостью — Валуевский циркуляр носит временный характер, в напряженной обстановке 1863 г. украинофилы подвергаются весьма ограниченным административным репрессиям, к тому же сопровождающимся более или менее удачными попытками привлечь их на службу против общего врага: так, Белозерский и Кулиш отправляются на службу в Царство Польское, усилия Антоновича в области истории южнорусских княжеств встречают благоприятный прием — как доказательство русского (а не польского) характера этих земель и непрерывности их истории. После кризиса 1863—1864 гг. в публицистике наступает затишье — чтобы смениться новой активизацией в начале 1870-х.
В первой половине 1870-х полемика вызывается возросшей активностью украинофилов — второго поколения движения — и привлекает внимание центральной администрации и печати в силу конфликтов в Киеве. Вытесняемые со своих позиций старые местные деятели (из них наиболее известен и влиятелен М. Юзефович) оказываются способны задействовать союзные им силы в центре и представить свое понимание ситуации высшим властям как адекватное. После некоторой неопределенности в 1880—1881 гг., когда обсуждается возможность пересмотра запретительных мер, установленных «Эмским указом», «украинский вопрос» замирает в публичной полемике — оставаясь на тех же позициях, что установились к этому времени.
Фактическая и весьма ограниченная либерализация, то наступающая, то отступающая на протяжении 1880—1904 гг., сменяется снятием запретительных мер в 1905 г. Последний этап, с 1905 по 1914 г., протекает уже в условиях прихода масс в политику, появления политических партий и групп, претендующих на выражение преимущественно или в числе прочего и национальных интересов.
Важно подчеркнуть, что одними из главных участников спора (в сборнике представлена только одна сторона в публицистическом соревновании, что, впрочем, не лишено своего смысла — в условиях Российской империи нередко публичный голос принадлежал только ей, из чего не следует, разумеется, что это была полемика непременно с «молчащим» оппонентом, но она предполагала несимметричность ситуации — оппонент высказывался частным образом, в зарубежных изданиях, прибегал к эзопову языку, недоговаривал собственную позицию, полагаясь на достаточное понимание со стороны читателя) были жители Малороссии или выходцы из нее — как обычно и бывает в подобного рода процессах, при конкурирующих национальных проектах, борьба идет на местном уровне, в выборе идентичности — «украинской», «малороссийской», «русской». Вместе с тем, как уже отмечалось выше, одной из проблем не только имперской политики, но и общественного мнения империи являлся спорадический характер внимания к «местным» проблемам — «украинский вопрос» лишь ненадолго оказывался в центре внимания, затем уходя с повестки, и, что важнее, дискуссии иногда заканчивались административными решениями, но так и не приходили к ясной формулировке программы: представленные тексты в этом отношении вполне показательны, нося преимущественно реактивный характер, причем по мере продвижения к последним годам существования империи их реактивность возрастает — позитивная программа не формулируется или оказывается сведенной к набору общих мест, конкретны преимущественно лишь предложения репрессивного плана, к тому же испробованные уже и показавшие свою недостаточную эффективность.
Впрочем, если это можно сказать о 1880-х и последующих годах, то к предшествующим десятилетиям это не относится. Особенное богатство материала с точки зрения его аналитической разработки представляют публикации первой половины 1860-х гг. и 1875—1882 гг. — на это время приходятся два важнейших события в выработке имперской политики по «украинскому вопросу»: Валуевский циркуляр 1863 г. и т.н. Эмский указ 1876 г. Публицистика при этом играет значительную роль — она стремится (и достаточно успешно) повлиять на вырабатываемые решения, предупредить нежелательные или способствовать сохранению приятого курса, которому грозит пересмотр. Разумеется, мы имеем дело с публицистикой, т.е. с текстами, долженствующими привести к конкретному действию или воздержанию от него, — они призваны убедить, а не представить объективную картину, что не означает их ложности, а лишь обозначает тенденциозность, притом обычно открытую. Понятно, что если мы стремимся представить свою позицию как сильную, то оппонента можно представить как «покушающегося с негодными средствами» или же, напротив, говорить о «смертельной угрозе», от него исходящей, — выбор риторики зависит от многих факторов, но это вопрос не описания объективного характера ситуации, а аргументов, которые способны побудить адресата к желаемому действию.
Попутно отметим, что представленные тексты дают возможность увидеть изменение аудиторий — и соответственно способов говорения: если для текстов 1860-х и даже 1880-х адресатом выступает «образованное сословие» и потому даже в эмоциональных и преднамеренно заостренных текстах Каткова или Аксакова присутствуют довольно сложные цепочки рассуждений, образов, сравнений и примеров, рассчитанных на соответствующего читателя, способного распознать цитату и оценить иронию, а газетные передовицы, жанр изначально короткий, в печатном варианте занимают по 8—15 страниц книжного текста, то в начале нового века газетная статья — все больше отклик или призыв: рассуждениям место в толстом журнале, газета теперь сообщает лишь факты и выводы. Т.е. в 1860-е годы еще сохраняется та ситуация, когда понятия «образованной публики», «читателей журналов и газет», «тех, чье мнение имеет значение» и «тех, кто придерживается рациональной аргументации» — не совпадающие, конечно, но довольно близкие.
Особый интерес представляет статья А.А. Иванова, вышедшая в катковском «Русском вестнике» в 1862 г., — написанная студентом киевского университета св. Владимира (с 1858 г.), она отличается не только глубиной понимания проблемы, но и точностью наблюдений как принадлежащая непосредственному наблюдателю и участнику данных процессов. Она является развернутым ответом на опубликованный в № 46 «Современной летописи» (приложения к «Русскому вестнику») «Отзыв из Киева», в свою очередь, являющийся реакцией на письмо П.В. Анненкова «Из Киева» (опубликованное в той же «Современной летописи» в июне, в № 25), содержащее критику «малорусской партии». Иванов начинает с того, что разграничивает два обвинения — в «сепаратизме государственном» и «сепаратизме национальном», причем сразу же отбрасывает первый, избирая своим предметом второй:
«Что касается до сепаратизма государственного, то действительно в настоящее время это “нелепость смешная”, каковы бы ни были желания сепаратистов. Хотя, по словам подписавшихся под “Отзывом”, “никто из них не говорит и не думает о политике”, но, во всяком случае, справедливо то, что сепаратизм национальный, которого они открыто желают, ведет со временем к сепаратизму государственному. Как ни важен последний, но в интересе просвещения первый, на наш взгляд, еще важнее, затрагивает самые чувствительные струны, а потому мы намерены поговорить о нем подробнее» (стр. 70).
Если авторы «Отзыва…» отводят подозрение в «сепаратизме государственном», то статья Иванова призвана продемонстрировать, что угроза «сепаратизма национального» не меньшая — но иная: его оппоненты заявляют о лояльности империи, тогда как Иванов говорит, что их стремления направлены к тому, чтобы образовать отдельную национальность и воспрепятствовать складыванию «одной великой нации». Он соглашается, что обучение на литературном русском «будет [для малороссов] несколько <…> менее успешно, чем на местном. Но и это маленькое замедление, думаю, с избытком вознаграждается тем, что учащему становится вполне доступной русская литература, что он получает возможность к дальнейшему образованию и развитию, сближается, посредством общего языка, с более образованными классами, усваивает себе язык суда, законов, администрации, что он, наконец, приходит к слиянию с прочими частями русского народа в одну великую семью, в одну великую нацию, как уже слились теперь различные части германской и французской наций» (стр. 83) — и отказывается вести разговор на языке «прав», отмечая, что его оппоненты утверждают, что «малороссы по своему числу имеют право на особый литературный язык, как будто речь идет здесь о праве, а не о пользе» (стр. 90).
Тем самым Иванов ничуть не отрицает возможности украинофильского проекта — его аргументация касается желательности подобного варианта развития события и последствий для проекта «великой нации». То, что отвращает от «московской централизации», осмысляется им как временное, более того — уходящее в прошлое:
«С распространением образования и особенно с принятием деятельного, самостоятельного участия народа в своей судьбе, в общественных делах, <…> подражательность, как мы начинаем замечать и у нас, становится слабее; в основу полагаются новые, самостоятельно выработанные начала <…>. “Оторванность от почвы”, о которой так часто некоторые твердят, исчезнет, почва явится, но только гораздо лучшая, гораздо более широкая и твердая. Литература, представительница великого, говорящего одним языком народа разовьется величественно. Воспринятое, выработанное и вырабатываемое образованным слоем общества распространяется и будет распространяться на большую и большую массу, и следовательно, самый этот образованный круг, бывший вначале незначительным и сделавшийся уже теперь довольно обширным, будет более и более распространяться, пока не охватит и не включит в себя всю массу, стоявшую до сих пор вне исторического хода, и она таким образом постепенно становится наследницей всего выработанного предыдущими веками, всем историческим развитием западно-европейским и нашим.
Таким образом все дурные стороны централизации московской, с ее батогами, развившейся по образцу “Византии и Сарая” (слова г. Костомарова из его вступительной лекции), и немецко-петербургской, с ее бюрократизмом, исчезают и мало по малу совсем исчезнут; но великие, истинно-благодетельные плоды той и другой останутся навсегда и заставят потомство вполне забыть их дурные стороны» (стр. 72—73).
Иначе говоря, Иванов признает проблему «оторванности от почвы», отчужденности интеллигенции — ее стремления сблизиться с народом, обрести в нем опору, но противопоставляет украинофильскому варианту — сближаться с тем народом, который есть, начать говорить и писать на том языке, на котором местное простонародье понимает, — вариант, когда «образованные слои общества» транслируют свою, уже наличествующую, общую для них культуру вниз, к разобщенному народу, в итоге обретающему также единство и «самостоятельное участие <…> в своей судьбе». Отвержение украинофильского проекта тем самым оказывается сопряженным с принятием не существующего порядка вещей, а другого образа развития — вопрос, стало быть, не только в привлекательности этих вариантов, но и в их реалистичности, по меньшей мере, в 1862 г. либеральный проект в изложении Иванова не представляется заведомо утопическим.
Поскольку речь идет об «образованных слоях», то Иванов, опираясь на собственный опыт, анализирует, что делает украинофильство привлекательным, — отмечая взлет популярности с конца 1850-х гг. Прежде всего, он выделяет общие симпатии к национальным движениям, восхищение романтическими образами Рисорджименто и т.п., чем проникнуто время: «они считали долгом сочувствовать всякому национальному стремлению, являться, если можно, его двигателями, не разбирая, к чему и зачем» (стр. 79) — попутно замечая, что стремления итальянцев «совершенно противоположны стремлениям украйнофилов: там разделенные части стремятся соединиться, здесь разъединиться» (стр. 79: доведя эту мысль до конца, можно сказать, что именно себя и сторонников представленного им взгляда Иванов мыслит законными единомышленниками Рисорджименто — что подтверждает общность понимания и общность символических образцов, за право обладания которыми идет борьба). Среди сторонников украинофильства он выделяет на основе преобладающей мотивации следующие основные группы:
«Одни из украйнофилов взялись за сепаратизм искренно, из любви к народу, думая, в своем увлечении, этим облагодетельствовать его, другие — и таких большинство — от того что голова ничем не занята: для них достаточно было видеть, что украйнофильство входит в моду, что другие делают то же самое; третьи — вследствие своего не русского происхождения; наконец, четвертых манит слава основателей малорусской литературы, если они успеют ее создать, и некоторые другие причины. <…> Если бы им удалось создать малорусскую литературу, то их, как основателей, как положивших начало, будут прославлять, они будут жить в потомстве, а в русской литературе они прошли бы бесследно» (стр. 80).
Злую верность этой характеристики — как злым, впрочем, прочитывается любое отчуждающее описание — можно оценить, обратившись, например, к соответствующим фрагментам «Автобиографии» Михайло Драгоманова или, на несколько другом материале, к его же «Австро-Руським воспоминаниям».
К поднятому Ивановым тезису, что «сепаратизм национальный» по меньшей мере сопоставим по угрозе с «сепаратизмом государственным», и не подозревая украинофилов, по крайней мере прямо, в стремлении отделиться от империи — их действия закономерно понимались как прямая угроза национальному единству «[обще]русской нации», — присоединился Ригельман, в 1875 г. опубликовавший в «Русском вестнике» под псевдонимом Z. обширную статью «Современное украинофильство», где бросал упрек:
«Вы оговариваетесь, что не желаете политического отделения от России; но духовное обособление гораздо хуже: границы государства есть дело исторической случайности, есть следствие часто причин случайных, если можно так выразиться, — появления на престоле государя-завоевателя, господства системы округления или учения о естественных границах, ловкости какого-нибудь дипломата на конгрессе и пр.; но гораздо глубже коренятся причины духовного объединения народов в слове и литературе. Там, в государстве, является простое сожительство граждан на одной территории и под одним уставом; здесь, в области слова, полное родство и не телесное, а духовное, выражающееся в общей работе, взаимнодействии, иногда борьбе всех духовных сил коллективной личности, народа, в общих усилиях его к совершенствованию, образованию, развитию. Поэтому тут обособление какой-нибудь части его неминуемо вредно отзовется как на той части, от которой ветвь отделяется, так и на отделяющейся; произведет оскудение сил в обеих, подобно тому, как отводом воды вы можете причинить обмеление судоходной реки и образовать два ручья, пригодные разве только для водопоя. Западное Славянство представляет столько печальных подтверждений этой истины, что излишне было бы доказывать ее» (стр. 183—184).
В центре обвинений Ригельмана оказалась статья Драгоманова «Литература российская, великорусская, украинская и галицкая», опубликованная в органе галицийских «народовцев», «Павде», в 1874 г., — а в особенности то обстоятельство, что Драгоманов выделил три (!) литературы: общую русско-европейскую и две народные — великорусскую и малорусскую (стр. 175—180, цитата из Драгоманова и разбор). Попутно заметим, что точка зрения, защищаемая Драгомановым, далеко не столь курьезна, как может показаться: если при спорах вокруг перевода Священного Писания речь шла о переводе на «простое наречие русское», как писал Фотий и как мыслили его сторонники, полагая что русское, что малороссийское лишь наречиями церковнославянского языка, то и для последующих десятилетий русский литературный язык отнюдь не выглядел устоявшимся. Принятый язык литературы, образованного общества воспринимался не только как плод недавних усилий, но и как до сих пор пребывающий в активном движении. Так, размышляя о трудностях, с которыми столкнется перевод богослужения на русский язык, Ю.Ф. Самарин писал И.С. Аксакову 23.X.1872 г.: «Нечего себя обманывать: для простых людей наш славянский — почти то же, что латинский; с другой стороны, нельзя себе представить богослужение на языке не кристаллизованном, не отрешенном от развития и колебаний живого, разговорного языка, который, особенно у нас, изменяется так быстро, что книга, писанная тому назад лет двадцать и в то время казавшаяся образцовою по слогу, теперь кажется почти смешною (выд. нами. — А.Т.)». Понятно, что для 1870-х это уже не так, но ведь то, что мы называем «современностью», — результат нашего опыта, оглядки на прошлое, и потому мы судим обычно о современности так, как если бы она была недавним прошлым, той реальностью, которой уже нет, но которая имеет очертания — в отличие от современности, которой еще только предстоит их получить.
Следует отметить, что с начала 1860-х годов центр украинофильства начинает перемещаться из Петербурга в Киев — географическое перемещение имеет в данном случае большое значение, отражая изменения, происходящие в движении: в 1830-е интерес носит преимущественно этнографический, ретроспективный характер, его центром выступает Харьковский университет, в 1840-х на передний план выходит Киев, где в атмосфере ранней «русификации», после Ноябрьского восстания, открытия университета (вместо польского по характеру университета в Вильно и Каменец-Подольского лицея) как агента имперской политики, под влиянием имеющего уже значительную историю польского «украинофильства» возникает первый вариант украинского модерного национализма — ограниченного в это время поднепровскими губерниями, но уже стремящегося использовать ресурсы, предоставляемые центром, — как это делает Кулиш, публикующий свои тексты в столичных журналах. Тяготение к столице — ярко проявившееся в роли Петербургской громады конца 1850-х — начала 1860-х, издании в Петербурге «Основы», деятельности петербургской украинской типографии Кулиша и т.д. — необходимо постольку, поскольку в это время нет возможности не из столицы мобилизовать сторонников украинского национального движения: они слишком малочисленны, чтобы какая-либо региональная площадка оказалась способна стать местом эффективного объединения. В начале 1860-х гг. украинофильство рекрутирует значительное число новых сторонников из младшего поколения: ресурсы, в том числе репутационные, накопленные благодаря петербургскому этапу, оказывается возможным продуктивно использовать уже на региональном уровне — в Киеве и в других более или менее значительных центрах Юга России, где сторонники украинофильства занимают относительно устойчивые позиции — от Антоновича и Драгоманова, принимаемых на службу в Киевском университете, до различных служащих по линии Министерства народного просвещения, например, служащих в губернских и уездных городах. Подобную эволюцию можно сопоставить с куда менее развитым сибирским областничеством, для которого и на первоначальном этапе, и во время вторичной консолидации (после репрессий второй половины 1860-х гг.) центром объединения становится Петербург — сначала как место учебы для сибирской провинциальной молодежи, затем там располагаются конторы журналов и газет, где в основном сотрудничают тяготеющие к областничеству авторы, а в дальнейшем основывается собственное издание, «Восточное обозрение»; и только уже затем, в начале третьего десятилетия существования движения, оно оказывается способным сменить локализацию — в том числе и за счет подъема (материального и интеллектуального) провинции, теперь соединенной с центром телеграфным и железнодорожным сообщением, обладающей существенно уплотнившейся культурной и образовательной средой (рост числа гимназий, реальных училищ и т.д., рост чиновничества и т.п. сфер занятости для людей интеллигентного труда).
В этом местном контексте также любопытна статья Ригельмана 1875 г., где он обращает внимание на стремление Драгоманова к символическому присвоению Богдана Хмельницкого (стр. 170, 181) — тогда как тот «должен служить символом воссоединения двух ветвей одного народа». Драгоманов придает памяти козацкого гетмана «значение воспоминания о его отдельности» (стр. 181): в данном случае противоречия будут не только в символическом значении Богдана Хмельницкого для «малороссов» и «украинцев», но и среди самих украинофилов — так, уже в конце 1880-х упоминание Драгомановым об участие ряда украинофильских деятелей в установке памятника гетману на Софийской площади будет воспринято как инвектива, и Драгоманову придется объясняться, что он имел в виду совершенно иное, а именно избегание «москалеедства», пример того, как в определенных случаях и весьма радикальные в теории деятели готовы идти на соглашение с оппонентами.
Надпись на памятнике Хмельницкому, составленная М. Юзефовичем, позволяет обратиться и к другому аспекту «украинского вопроса», а именно — отношению к федерализму. Напомним, что в конце 1850-х — начале 1860-х «децентрализация» выступала пунктом, в котором сходилось большинство направлений российской общественной мысли, «Старый режим…» Токвиля был одной из наиболее популярных книг, а противники административной децентрализации — такие, как Б.Н. Чичерин, — вызывали не столько возражения, сколько удивление как парадоксалисты. В конце 1850-х понятия «децентрализация», «автономизм» и «федерализм» использовались нередко без должного разграничения — с чем и была связана их популярность, как выражение общего недовольства бюрократизацией и стремления к «общественной самодеятельности». Для украинофильства именно «федерализм» стал понятием, позволявшим включиться приемлемым образом в текущие общественные дискуссии — и найти поддержку далеко за пределами тех, кто сочувствовал украинскому движению. Так, например, для молодых Ядринцева и Потанина Костомаров был главной или одной из двух главнейших (вместе с Щаповым) фигур на пути первоначального созревания «областничества». Это вынуждало оппонентов к гораздо более осторожному и критическому отношению к федералистским стремлениям. Так, А. Иванов уже в 1862 г. писал:
«<…> до какой нелепости могут доходить выходки украйнофилов, они услаждают себя, можно видеть из того, что в письме их, помещенном в одном из последних №№ львовского “Слова” за прошлый год, сказано, что в Малороссии (как будто в особенной стране, особенной нации!) будет наместником Великий Князь Михаил Николаевич. Мы знаем уже, что этот слух ложен, потому что Михаил Николаевич назначен наместником Закавказского края. Правда, в этой газете сказано, что такое назначение будет сделано вследствие обширности России в видах децентрализации. Но это значило бы не больше, как разделить одну централизованную статью на две централизованные части. Разница не очень велика! Мы ждем децентрализации, но совершенно не такой, а просто большей степени местной самостоятельности, большей степени самоуправления в существующих административных округах, насколько это возможно без разрыва частей России с центральной властью. К такой децентрализации стремится теперь и правительство, а вовсе не к такой, о которой мечтают рьяные украйнофилы» (стр. 88— 89).
Катков, один из наиболее последовательных сторонников автономизации, самоуправления в конце 1850-х, в полемике с украинофилами был вынужден занимать более проработанную теоретическую позицию, говоря о неприменимости федералистского принципа для переустройства Российской империи:
«Есть фантазеры, которые увлекаются мыслью о федерации; но федерация, или лучше сказать относительная самостоятельность частей одного политического целого, имеет смысл только при условии полного национального единства. Лишь там, где население, при всем разнообразии типов, характеров, обычаев, экономических интересов и даже верований, имеет равно общий всем орган в языке и литературе, возможна большая или меньшая самостоятельность в развитии частей. Единство языка и литературы было главной и великой силой германской народности, разрозненной между многими отдельными государствами. Точно так же и Соединенные Штаты Америки могут составлять целое только потому, что между ними нет вопроса о национальности: могло ли бы держаться это политическое целое, если бы к антагонизму других интересов в его населениях присоединялась слепая страсть национальных инстинктов? Надобно, чтобы этот вопрос был навсегда покончен, для того чтобы возможно было, не оскорбляя здравого смысла и не обманывая себя и других, помышлять о самостоятельном развитии частей одного целого» (стр. 147—148, передовица «Московских ведомостей» за 19 сентября 1867 г.).
* * *
Хронологически сборник выходит за пределы истории Российской империи, к эпохе после 1917 г. относятся четыре текста: статьи Н.А. Бердяева (1918), Н.С. Трубецкого (1927), Н.О. Лосского (1958) и книга Н.И. Ульянова «Происхождение украинского сепаратизма» (1966), целиком включенная в данное издание, — этому тексту повезло более всего, он уже третий раз выходит в России после 1996 г. Постимперская публицистика характеризуется непримиримостью позиций (аналогично — и с украинской стороны), поскольку оказывается не скована прагматикой — являясь или сетованиями о прошлом с самообвинением (как у Бердяева) или поиском виновных, или надеждами на будущее, в котором получится избежать ошибок прошлого и осуществить те надежды на должное, что рухнули вместе с империей или по ее вине.
Проблема была не в том, что империя избрала вариант жесткой ассимиляционной политики, — а в том, что для этого варианта у нее не хватало ни ресурсов, ни постоянства политической воли. Как констатирует А.И. Миллер, «задача консолидации именно большой русской нации, как задача принципиально отличная по способам ее решения от проблемы сохранения империи, так и не стала приоритетной в глазах властей. Скудное, даже сравнительно с имевшимися возможностями, финансирование начальной школы, отсутствие массовых изданий дешевой учебной литературы на русском, характер переселенческой политики и другие <…> примеры нерадивости лишний раз свидетельствуют о низкой эффективности российской бюрократии как агента ассимиляции. <…> Как бы то ни было, ясно, что историю соперничества общерусского и украинского проектов национального строительства нужно рассказывать не только, а может быть, даже не столько как историю успеха украинского национального движения, но и как историю неудачи русских ассимиляторских усилий».
В итоге для тех, кто не был согласен со столь жесткой официальной трактовкой «украинского вопроса», не оставалось выбора, кроме конфронтационного, — официальная политика и проправительственная публицистика в своем «зрелом» варианте не предлагали компромисса, но при этом не обладали достаточными ресурсами, чтобы ликвидировать украинское движение. До тех пор пока режим пребывал в относительной стабильности, такая ситуация не представляла существенных проблем, поскольку украинское движение было сравнительно малочисленно, а радикальные противники власти уходили в иные, революционные направления. Однако в условиях кризиса империи и последующих событий в Центрально-Восточной Европе первых десятилетий XX века украинское движение обрело силу — уже по причине того, что его соперники либо исчезли, либо оказались дезорганизованы, существенно ослаблены и т.д. Власть оказалась у тех, кто до этого был радикальным противником не только режима, не только (и не столько) империи, но и общерусского национального проекта — и кто не умел, не выработал никаких форм и способов компромиссного взаимодействия.
В этом смысле прозорливее других был Розанов, писавший в довольно глухую для «украинского вопроса» пору, в 1902 г., в «Новом времени» (21 января, № 9297):
«Центр украинофильства в великороссофильстве. Как только мы теряем универсальность, мы получаем вокруг себя сепаратизм. Мы от идей великого Рима возвращаемся к Лациуму первых консулов, а где Лациум — там и враждебный ему Самниум. После Петра Великого бороться с “Кобзарем” Тараса Шевченко все равно, что после Брюллова и Репина возвращаться к лубочным картинкам в издании Ровинского. Петр Великий выучил бы сам и для себя какую-нибудь “думу”, ввел бы бандуру и казачка в какое-нибудь роскошное петербургское уличное представление и этой любовью, этой переимчивостью прихлопнул бы навсегда малороссийский культурный вопрос <...>. Август римский всех чужеродных богов сносил в Пантеон; и все боги умерли, кроме Юпитера» (стр. 279).
Украинский вопрос в русской патриотической мысли / Сост., предисл., послесл. и прим. А.Ю. Минакова. — М.: Книжный мир, 2016. — 800 с.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости She is an expert
She is an expert Общество
Общество
Лекция Эндрю Маклюэна, внука Маршалла Маклюэна, о великом теоретике медиа и о прикладной ценности его идей для нас сегодняшних
30 апреля 2021527 Кино
Кино Colta Specials
Colta Specials Театр
Театр She is an expert
She is an expert Современная музыка
Современная музыка Общество
ОбществоАртем Хлебников об исторических аналогиях между настоящим и прошлым и их настоящих целях
29 апреля 2021127 Современная музыка
Современная музыкаСинтезатор АНС, инженеры-композиторы, майор с лицом Гагарина, замаскированные сотрудники КГБ и Луиджи Ноно: история одной несостоявшейся музыкальной революции
29 апреля 2021328 Литература
Литература Академическая музыка
Академическая музыкаДиректор Транссибирского фестиваля Олег Белый — о том, чем отличается 2021 год от 2020-го, а 2020-й от 2019-го
28 апреля 2021129 Искусство
Искусство