 Современная музыка
Современная музыкаDvanov. «Гиперпустырь»
Городские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы
25 ноября 20211551 Василий Верещагин. «Победители», 1878–1879© Киевский музей русского искусства
Василий Верещагин. «Победители», 1878–1879© Киевский музей русского искусстваОбстоятельное исследование Виктора Таки, в ушедшем году вышедшее английским изданием, а теперь появляющееся и по-русски, посвящено эволюции российских представлений об Османской империи — с первых контактов и вплоть до Крымской войны. Естественным образом центр тяжести исследования приходится на последние полтора века указанного периода — с конца XVII века контакты Московского царства, вскоре ставшего Российской империей, с империей Османской становятся все более плотными и многогранными.
Работа состоит из пяти глав, каждую из которых можно рассматривать как самостоятельное исследование: о посольствах, посольском церемониале и статусе послов; о восприятии турецкого плена; осмысление опыта турецких кампаний русскими военными; о динамике образов упадка Османской империи в XVIII — первой половине XIX в. — и о восприятии народов, населяющих империю.
Общая исследовательская рамка задается критически переосмысленной концепцией «ориентализма» Э. Саида — вопросом о том, когда и как Османская империя делается в глазах России «Востоком» и что включает в себя это понятие. Ведь «Восток» применительно к любой конкретной стране неизбежно детализируется — общая схема именно потому, что она присутствует в сознании, прорисовывается через изъятия или соответствия.
Посольский церемониал и дипломатические сношения России с Османской империей имеют особенно долгую историю — с конца XV века, так что данный материал позволяет проследить эволюцию отношений на большую глубину. Если до XVIII века русских послов (являвшихся представителями фигуры государя) в первую очередь волновали вопросы соблюдения царской чести, то с XVIII века русские послы все в большей мере обращают внимание на положение среди других европейских послов. При этом нередкой оказывается их критика последних с точки зрения забвения европейских обычаев, уступок, делаемых Порте, — русские дипломаты выступают здесь как более «западные», чем их коллеги, поскольку ощущают необходимость утвердить свой статус среди них — продвигаясь от признания равенства с иными посланниками до споров о первенстве и преимуществе. Специфика ситуации еще и в том, что Османская империя не входила в «европейский концерт» и соответственно дипломатические практики в ней вырабатывались во многом автономно: послы и посланники не могли прямо апеллировать к принятым между европейскими дворами обычаям и обыкновениям, а выстраивали отношения с Портой и между собой как отдельную систему правил.
 © Новое литературное обозрение
© Новое литературное обозрениеПрослеживая изменение образа Османской империи в глазах русского образованного общества в XVIII — первой половине XIX века, Таки фиксирует, что первая выступала тем «другим», через которого утверждалась собственная «европейскость». Однако ситуация XVIII века, особенно после успехов русско-турецких войн екатерининского правления, демонстрирует распространенность образа быстрого возвышения «Севера» (в это время привычная затем дихотомия «Запада» и «Востока» еще только начинает утверждаться в европейском сознании), Российской империи, стремительно идущей по ступеням могущества, и упадка Османской империи. Эта схема отсылает к классическим образам возвышения и упадка — в силу добродетелей и доблестей и их последующего упадка — и говорит о закате дома Османов, но чаще всего русскими авторами подчеркивается неспособность или нежелание турок перенимать европейские достижения — что вновь демонстрирует превосходство русских.
Напротив, с 20-х годов XIX века, с реформ, предпринятых Махмудом II и продолженных при его преемниках, наблюдается существенное изменение аргументации — Османская империя по-прежнему противопоставляется Российской, при этом аналогия между султаном-реформатором и царем-реформатором, популярная в европейской печати, зачастую переосмысляется в плане различий. Критика реформ оказывается двусторонней: во-первых, наблюдатели подчеркивают их поверхностный характер, отмечают, что они касаются преимущественно наружности, являются имитативными и под новыми словами и одеяниями остается все тот же порядок вещей, но, во-вторых, теперь уже с позиций поднимающейся националистической риторики критикуют реформы за отступление от старины, забвение «духа» народа. Так, Муравьев, отправленный с миссией в Константинополь и Египет в 1833 году, полагает, что вместо того, чтобы увлекаться заимствованием европейских военных приемов и порядков, следовало бы заботиться о возрождении старого воинственного духа. Критики одновременно атакуют и «поверхностный» характер европеизации, и само стремление к европеизации. Тем самым, как отмечает Таки, видна связь «ориентализма» и «оксидентализма» — описания и размышления об Османской империи одновременно позволяют вычленять образ «Запада», причем по мере продвижения к середине XIX века он не только становится более жестким, но одновременно оказывается предметом критики. Османская империя синхронно предстает и как «Восток», что демонстрирует ее отсталость, и в то же время как подражатель «Западу», каковые попытки разлагают османские традиции.
Особенно частое подчеркивание турецкой отсталости, варварства и т.п. проявляет компенсаторный характер подобного «ориентализма» у русских авторов — сопоставление с Турцией позволяет утверждать европейский, западный характер наблюдателя. Примечательно, что в переводах западных публикаций, освещавших реформы Махмуда II, «купировались все сравнения между Россией и Турцией, которые представляли последнюю в более выгодном свете» — если для западноевропейских наблюдателей обе империи выступали во многом схожими, то для российских авторов и переводчиков важно было подчеркнуть различие: обращение к турецким темам демонстрировало «инаковость», при этом сходства, обнаруживаемые в деталях, в поведении и т.п., лишь подчеркивали отличие — «общая человеческая природа» делала «другого» понимаемым, открывала путь к эмпатии.
Вместе с тем «ориентализм» был и инструментом критики собственного общества: описания нравов «простых турок» отсылали нередко к образам патриархальной или «естественной» жизни, свободной от предрассудков современного общества, — или же, через демонстрацию чужих обычаев как не менее или не более логичных, чем свои собственные, к остранению своей собственной культурной ситуации, осмыслению ее как системы условностей.
Что касается опыта военных действий с Османской империей, то, поскольку у России он был в XVIII—XIX веках наиболее богатым среди всех европейских держав, в осмыслении его многие авторы избегали простых характеристик «отсталости». Османская армия и в XVIII веке демонстрировала качества, делавшие из нее серьезного противника, — в связи с чем для русских наблюдателей, имевших возможность сопоставлять опыт турецких кампаний с кампаниями европейскими, свойственно указание на специфику, несходство с «нормативным» идеалом военной науки толкуется зачастую в пользу вариативности последнего. Вместе с тем при обращении к трудностям военных действий против Турции авторам свойственен другой аспект «ориентализации»: подчеркивание трудностей, вызванных природными условиями, местным населением и т.п., — подобно тому, как во французских описаниях кампании 1812 года большую роль начинает играть «генерал Мороз», противостояние с природой, а не с другой армией, и причины неудач относятся не к мастерству или храбрости противника, но к условиям не-человеческим, так и в русских описаниях сетования на климат оказываются объяснением, позволяющим не отказываться от отведенного противнику низшего места в иерархии по сравнению с собой.
Примечательно, что многообразие народов, составляющих Османскую империю, на протяжении длительного времени практически игнорировалось русскими наблюдателями — а сами народы попадали в фокус внимания отнюдь не одновременно, происходило своего рода «открытие» многообразия Османской империи, в первую очередь, «Европейской Турции», которая была в фокусе политических интересов Российской империи. По мере секуляризации прежнее конфессиональное восприятие сменялось этническим, не вытесняя первого полностью — так, образ «христианского Востока» вновь выйдет на передний план в ходе Крымской войны. При этом «предъявление народов» русской публике преимущественно происходило по инициативе активных деятелей самих балканских народов — многообразие раскрывалось в сфере контактов, где стремление проложить границы по-новому и выявить иные, нежели распространенные в русской оптике, линии разграничения принадлежало местным выходцам, претендующим на внимание и влияние со стороны русского правительства и общества.
Если в XVI веке Османская империя оказывалась примером, как в случае Пересветова, ссылавшегося перед Иваном IV на опыт султанов, и дипломатическим партнером, с которым Московское царство, в первую очередь, было озабочено соблюдением равенства в двусторонних отношениях (за исключением Крыма, хан которого, потомок Чингисхана, претендовал на то, чтобы рассматривать Москву как данника — и, следовательно, как вассал султана, противодействовать этим притязаниям), то со второй половины XVIII века Турция все более оказывается в восприятии «другим», чья инаковость служит подтверждением оксидентального статуса России. В этом плане показательна болезненная реакция на встречающиеся в европейских описаниях сопоставления Османской и Российской империй — при этом российские описания Турции ориентированы на западноевропейские образцы, зачастую подменяющие или, по крайней мере, определяющие рамку восприятия политического соседа: воспроизведение такого описания не только отражает культурные связи и заимствования, но и подтверждает собственную принадлежность к «Западу» через возможность транслировать этот взгляд как собственный.
Но по мере того, как Османская империя клонится к упадку в XIX веке, на смену противопоставлению России и Турции приходит вопрос о западном влиянии на Балканах — теперь уже Османскую империю готовы рассматривать как фактор, защищающий Балканы от угрожающего им подпадения под влияние европейских держав и европейской культуры. Периферийный характер Российской империи, ограниченность ее собственной принадлежности к «Западу» модифицируют оптику: «ориентальное» восприятие Турции не означает собственной «оксидентализации», в связи с чем вновь востребованными оказываются конфессиональные категории («христиане», «православные» и т.д.) вместе с этническими и (прото)национальными («славяне», «южные славяне» и т.д.). Если Османская империя по-прежнему будет выступать «Востоком», то противоположная сторона оппозиции в российской оптике все более будет размываться — в силу сомнительности собственного статуса, в связи с чем для критиков существующего порядка вещей (например, для Драгоманова во второй половине 1870-х годов, как раз воспроизводящего отчетливую ориенталистскую схему) речь пойдет «о турках внешних и турках внутренних». «Восточные» или «турецкие» нравы будут склонны обнаруживать у себя самих, в то время как поддержка, например, Францией или Англией Турции будет интерпретироваться как постановка под вопрос «Запада»: в какой мере сами западные державы соответствуют своей «западной» сущности — по аналогии с тем, как веком ранее российские дипломаты критиковали своих европейских коллег за их неверность европейским приличиям.
Виктор Таки. Царь и султан. Османская империя глазами русских. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 320 с.: илл. (серия Historia Rossica).
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Современная музыка
Современная музыкаГородские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы
25 ноября 20211551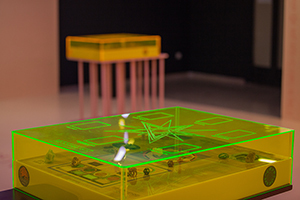 Искусство
Искусство Современная музыка
Современная музыкаДружба двух столиц на совместном треке московских альт-рокеров и петербургского хип-хоп-дуэта
24 ноября 20211880 Общество
ОбществоЮрист Правозащитного центра «Мемориал»* рассказала Эвелине Руденко о своей работе и о людях, которые пострадают от его потенциальной ликвидации
24 ноября 2021262 Литература
Литература Colta Specials
Colta Specials Общество
ОбществоГлеб Павловский об идеях Арсения Рогинского и о том, что за угрозой «Мемориалу»* стоит не политика, а стратегия военного типа
22 ноября 2021183 Общество
ОбществоИсторик Ирина Щербакова рассказывает о своих старых аудиозаписях женщин, переживших ГУЛАГ, — они хранятся сейчас в архиве «Мемориала»*. Вы можете послушать фрагменты одной из них: говорит подруга Евгении Гинзбург — Паулина Мясникова
22 ноября 2021330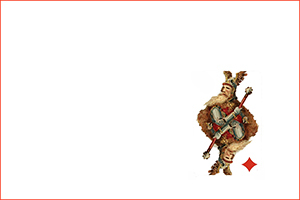 Молодая Россия
Молодая Россия«Иван Ильич подошел к мечети имени Рамзана Ахматовича Кадырова и горько взглянул на ее нежные белокаменные стены». Рассказ Сергея Мирошкина
22 ноября 20211572 Colta Specials
Colta SpecialsОлег Радзинский о новом фильме, снятом автором «Москвы» и «Мишени», режиссером Александром Зельдовичем
22 ноября 2021195 Искусство
Искусство She is an expert
She is an expertЛариса Малышева вспоминает, как в 1970-х монументальные объекты стали световыми — и как она их проектировала
19 ноября 2021259