 Литература
ЛитератураЧеловек-лаборатория
 © Colta.ru
© Colta.ruСтранно описывать стихи Порвина: чуть ли не самый «утвердившийся» автор поколения тридцатилетних, про которого вроде бы всем все «ясно». Уже третья книга стихов (плюс одна вышла в переводе на английский); переводы с английского и русского (причем современных авторов); лауреат премии «Дебют», наконец. Есть какой-то холодный консенсус относительно того, что́ такое тексты Порвина. Помимо бесчисленных расшаркиваний и комплиментов принято видеть в этих стихах некие «лирические абстракции», говорят об «искусственности строгой формы» Порвина в виде «повышенной стиховой затвердеваемости», отмечают «формульность», «риторическую возвышенность» стихотворений, которые будто бы искусственно «замедленны», не отличаются «краткостью и точностью».
Новая книга — полная противоположность этому образу. Огромное, протяженное, подробное высказывание, в каждый момент своего пути притом предельно лаконичное, отточенное. Первые две книги на фоне этой уже могут предстать нежно-безбрежными («инфантильная образность»).
Что сказать про язык Порвина кроме того, что это язык настоящей поэзии? Она одновременно совершенно свободно пользуется инструментарием той поэзии, на которую сегодня принято смотреть как на самую авангардную (в детей молчим боязнью зимы), и при этом — что куда важнее — уверенно опирается на мощнейший пласт традиции — той, что «актуальнее» любых «поэтических» «измыслов». Слышны голоса У. Блейка, Р. Фроста (эхом сразу Г. Дашевский). Действительно, эти стихи пластичны, искрометны в своей виртуозности — буквально взрывают изнутри ту железную рамку, в которой им жить (всякий раз это четыре катрена, в каждой главке по 10—15 текстов, всего 15 главок, все они собрано воедино 16-строчным «венком»-эпиграфом — а еще ведь консервативная пунктуация и кажущаяся (!) инерционной интонация…). Все намеки на барочную риторичность, на твердую форму — обманка, способ оттенить те семантические и ритмические взрывы, которыми эта поэзия оперирует. Похожим занимался Пушкин, какой уж тут «твердый стих» — все горит.
Как работает эта виртуозность? Это дотошный труд по осмысленному превращению каждого элемента поэтического текста в значащую единицу. Версификационная виртуозность здесь достигается за счет того, что всякая версификация отрицается. Иногда создается такое ощущение, что текст, который мы сейчас читаем, изначально был написан обычным регулярным стихом, такое совершенно беззубое лирическое стихотворение, — а потом поэт снова сел за работу и безжалостно вымарал все, что хоть как-либо могло напоминать последовательную метрику и точные рифмы. Эта «искусственность», впрочем, рождена в тех же эмпиреях, что и смелые спондеи Мандельштама или изящные рифмы Дж.М. Хопкинса: они всякий раз семантически нагружены. Чтение этих стихов требует огромной концентрации, не меньшей, чем тексты М. Еремина, Е. Сусловой. Автор — суровый, монологичный, собирающий концентрат фразы в каждой точке своего поэтического тела, — последовательно решает титаническую поэтическую задачу.
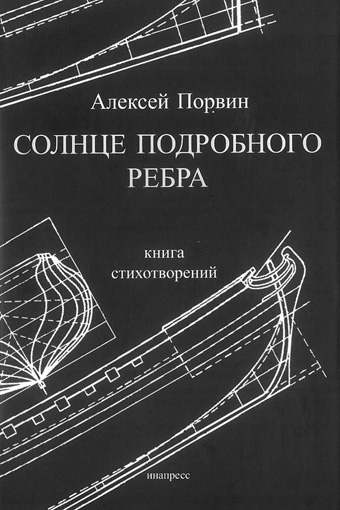 © Инапресс
© ИнапрессНоша субъекта этих стихотворений поистине неподъемная. Один из редчайших случаев в современной поэзии, где эстетическая задача решается путем работы с этическими категориями. В самом деле, кто еще сегодня, не выходя за рамки «традиционной лирики», описывает задачу, выбор, волю, участь, бремя, ответственность? Причем все те парадоксальные семантические взрывы, которые возникают в этой речи, даны уже в строке, называющей первую главку: дожидаться если правильных морей. Правильные моря — этот оксюморон есть начальная нота увертюры, это правильность, которая сразу себя хочет утвердить, она абсолютна, эпитет никак не конкретизирован: правильные как определение сути, духа, если угодно. И в то же время — речь о морях, о безбрежном, неконтролируемом (и потому изначально неправильном!), угрожающем даже — и вмещающем при этом все человеческое Я (так, романтику было обязательно стоять у моря — созерцая всего себя в непознаваемой сущностной полноте). Конфликт усиливается тем, что неконтролируемых морей (еще и во множественном числе! апофеоз хаоса — а все же правильных) каким-то образом можно дожидаться, а ведь «дожидаться» как глагол со значением направленного действия уже предполагает некий контроль над ситуацией. И вот парадокс: этот контроль тем не менее грамматически оформлен несовершенным видом инфинитива (т.е. окончательно он так никогда и не воплощается), а семантически — в виде пассивного ожидания. Не «дождаться», а дожидаться: этот неровный анапест первого стиха, соседствующий с ямбом, словно подчеркивает: не доплыть же до них, в самом деле. Нет, но, сидя в своей лодке (сложа руки?), ждать, пока ее не выбросит в правильное море, — и одновременно ждет даже не столько Я, движущееся в лодке, сколько статичный берег: второй катрен увертюры начинается со стиха поспешают лодки берег ждет и ждет — вот и смена перспективы, не лодка ждет моря (отплытие), а берег ждет лодку (прибытие). Наконец, вся напряженная ситуация переводится в сферу виртуального: если. То есть, вполне возможно, ни лодка — моря, ни берег — лодки так и не дождутся.
Порвин прямо объясняет в первой главке, что за выбор его интересует. В ситуации, когда постоянно приходит [поэтический] жар и требует огня, которого у Я нет (лишь вьюга слезная, сырая), необходимо выстраивать существование вокруг хоть какого-то стержня — воли. Воля эта и должна выбирать огонь:
здешним утром — делать что человеку?
Выбор — донельзя — жизненный — прост.
Звенящей заплечной вьюгой
крылатеть на ангельский манер,
бивнем ротового пара дырявить
время до первых северных звезд.
«Простой» выбор иронично и вместе с тем безыскусно выражен в довольно непрозрачном — на первый взгляд — катрене. Несовершенный вид глагола то ли движения (биение крыльями), то ли преобразования (наращивать крылья) крылатеть, данный к тому же в инфинитиве, вообще-то отвергает саму идею выбора (выбор как изменение состояния Я внезапно выражается в инфинитиве — недискретной и неличной форме). Но эта вьюга, которую мы уже видели как состояние нищего даром субъекта, здесь преображается (чуть ли не в христианском смысле): звук крыл и есть ангельское пение (потому звенящей), чистое творение (сколько белого в этой строфе! — вьюгой, ангельский, бивнем, пара, северных), оно перестает быть хладным, теперь оно — горячий пар, и паром-голосом этим Я разрезает ледяное пространство, пока снова не наступит ночь — а с ней холод северных звезд. Важно, впрочем, заметить, насколько амбивалентно это поэтическое начало: ангельское-то оно ангельское, вот только это совершенно неуклюжее крылатеть (такой «плотский» суффикс, ср. какие-нибудь «обволосатеть», «обрюхатеть»), страшное заплечное и жуткий бивень — не тянут ли они ангельское книзу, в животное, если не в бесовщину? Здесь уже просматривается следствие жизненного выбора — всепроникающая угроза, про нее подробнее рассказывает вторая главка.
Версификационная виртуозность здесь достигается за счет того, что всякая версификация отрицается.
Холодная воля поэтического Я, которая не способна, но должна родить огонь — вот, в грубом приближении, тот конфликт, вокруг которого вращается первая главка. Нет и следа той самой «инфантильной образности». Все существование человека (море жизни — правильное море) показано как жестокое по отношению к самому себе стремление взвиться в попытке творения. Отсюда и постоянное присутствие императивов, о которых написали уже все, но почти никто не объяснил, зачем они Порвину нужны, кроме каких-то жалких попыток увидеть в них «разговор с самим собой», «обращения к себе, словно учебные задания». Эта поэзия — яркий пример того, насколько осмысленным может быть любой формальный аспект. Обилие императивов в текстах Порвина есть инструмент первостепенной важности, они и являются операторами тех этических пропозиций, которые он разрешает. К ним примыкают и инфинитивы, где у Порвина также отчетливо слышны оттенки целеполагания, явленной необходимости.
Начальное суждение развертывается по ходу книги. Уже в первой главке настойчиво возникает предупреждение — зря, впустую:
Пусть неизбежность (или рассвет?)
деревьям выскажет: выбора нет
зря — водой набрякли,
существами будут навряд ли.
Выбор, который нужно совершить, известен, но и не существует, задача изначально ясна (задача — сиять неустанней), и если выбирать, то выбирать только ее — но она и невозможна. Жар требует огня — но есть лишь сырая вьюга. Это напряженное биение ужесточается тем, что нужно не просто принять (и породить, что здесь одно и то же) огонь, но и подробно высказать его, а это невозможно: поэтическое высказывание по определению несказанно (выбрать берег невыразимей; выбрать берег неизреченней — первый нельзя сказать, второй еще не сказан, но они едины). Выбор действительно сделан: каждое стихотворение этой книги есть попытка максимально подробно «изложить» заглавное переживание, именно поэтому так сложно свести их к какому-то магистральному вектору, нам каждый раз даются мельчайшие детали существования «после выбора» — когда Я уже погрузилось в поток поэтического говорения и горит-сгорает, стараясь изречь неизреченный берег.
Вторая главка, можно светлый день проворонить, сразу же расставляет все точки над i. Принятый поэтический (= жизненный) выбор не только неосуществим, он опасен. Выспренность слога, высокая творческая задача — все сакральное тонко травестируется через емкие прокламации этого выбора, которые отдают чуть ли не советским пафосом: нам космос — вряд ли западня; наши боги честнее. В отличие от оригинальных лозунгов, эти стихи у Порвина пронизаны горечью, стихотворение про космос (и обязательных Белку и Стрелку) заканчивается вроде на той же приподнятой ноте:
Пусть люди почувствуют праздник,
где космос — это шутовство,
пригодное для всякого вдоха,
поднявшего нас на высоту.
Но как оно начиналось? Резко, безжалостно, первым же штрихом обрисовывая всю глубину уготованной бездны (в космос здесь — вниз, а не наверх, ангельское — снова к бесам):
Во тьме — от чего защищаться?
Гремят бубенчики огня.
На первый взгляд, защищаться не от чего — значит, опасности нет. Однако второй стих приподнимает завесу амбивалентности и поясняет, что угроза настолько необъятна, что страшит именно своей непознаваемостью и ложным чувством защищенности: здесь тьма, здесь жуткий гром бубенчиков огня — ситуация максимально нестабильная, и риторический вопрос первого стиха оказывается риторическим не потому, что его можно было не задавать, но потому, что на него нет ответа. Не от чего защищаться — потому, что не видишь, откуда нападают. Священное бремя речи оборачивается западней, которая только хитрее оттого, что сама себя отрицает.
В книге «Солнце подробного ребра» категорическая воля поэтического Я живет в нагромождении неторных троп, их начало — в ситуации словесного бессилия (о звуковом былом уроне), их конец — в неведомой тьме. Чтобы пройти этот путь (а не пройти его нельзя, хоть пройти его невозможно: игра модальностей), лирический субъект должен разложить на части себя (ребро) и мир, обозначить родство всех предметов, отыскать детали. Только так и можно обрести свет (огнь, солнце), пусть и в непроглядной темноте, когда светлый день проворонен (как у Пушкина: лежит ночная мгла <…> и сердце вновь горит), только так прихлынет волна с душою вертикали. Свет — название заключительного стихотворения книги, которое в буквальных терминах резюмирует пройденный путь. Страшно подумать, что в этих текстах можно увидеть «романтическую красивость». Каждая из главок этой книги стихов есть подробное исследование крошечных ответвлений такого пути, в духе средневекового научного трактата или барочной поэмы, где метрические сбои и семантические контрасты — чуть ли не главный ключ к переживанию, связанному противоборствующими модальностями. За кадром не остается ничего, всему уделено внимание и чувство, и значимость этой книги именно в том, что
соленый ветер верхних частот
на языке так многослоен.
Алексей Порвин. Солнце подробного ребра. — СПб.: Инапресс, 2013
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Литература
Литература Театр
Театр She is an expert
She is an expert Академическая музыка
Академическая музыка Литература
ЛитератураПо просьбе COLTA.RU Мария Нестеренко поговорила с исследователем о sound studies, его последней книге и о том, зачем философии нужен звук
23 декабря 2021225 Литература
Литература Современная музыка
Современная музыка She is an expert
She is an expert Colta Specials
Colta SpecialsФотоотчет с выставки, где детская культура полувековой давности встречается с современностью
22 декабря 2021144 Искусство
ИскусствоАнна Борисова о том, что рождается из волн живописной психоделии и нового нью-эйджа
21 декабря 2021193 Современная музыка
Современная музыкаНовые альбомы Noize MC, Oxxxymiron, «Обе две», «Спасибо» и другие примечательные отечественные релизы месяца
21 декабря 20213699 Молодая Россия
Молодая Россия«Мужики работали на волоке — перетаскивали машины с одной трассы на другую». Рассказ Максима Калинникова
21 декабря 20211367