 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиКак заработать самоорганизованным сообществам
 © Российский государственный архив литературы и искусства
© Российский государственный архив литературы и искусстваПоследняя книга Цветана Тодорова (1939—2017), вышедшая по-французски в год его смерти, а в русском переводе появившаяся в этом году, на первый взгляд, способна лишь разочаровать. В первой части это соединение биографических историй десятка с небольшим деятелей русской культуры, чья деятельность пришлась на революцию и послереволюционные десятилетия, во второй — подробный (сравнительно с предшествующими) монографический очерк о Казимире Малевиче.
Еще более способна разочаровать общая концептуальная рамка — история про то, что в политическом противостоянии у художника практически нет шансов, но в большом времени все переопределяется:
«Властители способны уничтожить тех, кого они жаждут подчинить; им нет никакого дела до эстетических, этических, духовных ценностей, создаваемых художниками (и не только художниками). Но без этих ценностей человечество не выжило бы вчера и не выживет завтра. В этом и состоит триумф хрупких героев нашего рассказа» (стр. 250).
Примечательно, что само — исполненное пафоса — финальное рассуждение оказывается несколько сомнительным, вернее — содержащим целый рад подразумеваемых положений, которые лишены самоочевидности. Это и утверждение о «триумфе», вынесенном в заголовок, — поскольку они уже мертвы ко времени триумфа, то кто является его празднующим? В этой логике — по факту возвращающей нас к моделям ренессансным и просвещенческим — речь может идти о «славе», том признании в глазах других, которое возможно в своеобразной перспективе — из настоящего в будущее, утверждении собственной победы/торжества за пределами своего существования, помещении себя в качестве зрителя в оптику будущего, то есть одновременном бытовании в качестве действующего лица — и наблюдателя, выносящего суждение.
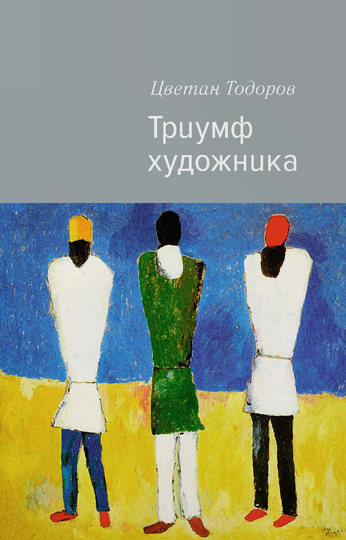 © Азбука-Аттикус, 2018
© Азбука-Аттикус, 2018Но гораздо более любопытно обоснование «триумфа»: в отличие от логики «славы», оно оказывается прагматическим, основанным на выживании — и если допустить, что даже не вообще без эстетических ценностей, а именно без этих конкретных, утверждаемых именно этими художниками ценностей можно выжить, то будет ли это означать, что они недостойны триумфа? Более того, безразличие «властителей» к ценностям презюмируется тем же способом — через прагматику, приписываемую им, прагматику политического, власти как предела стремления в обладании, сохранении, преумножении, — но ведь тогда логика зрителя, утверждающего триумф художника, оказывается совпадающей не с художественной, а с властительной. Зритель венчает художника, поскольку обнаруживает/признает, что без создаваемых им «ценностей» он не может выжить, — иными словами, это история даже не о полезном, а о совершенно необходимом, безусловном. И если вдруг мы обнаружим, что эти «ценности» — пусть и нечто полезное, пригодное, удобное, но лишенное необходимости, если мы можем выжить без них, хотя бы и худшим образом, чем с ними, — то тогда признаем ли мы триумф художника?
В этой рамке — истории про отношение к революции: от полного неприятия (счастливого, если есть возможность бежать) до столь же полного приятия, ощущения единства революции художественной и революции политической. С последующим существованием в реалиях, созданных победой революции политической, — опытами продолжения единодушия и обнаружением того, что реалии меняются постоянно и то, во что верилось перед этим, в чем обретался смысл, теперь надобно отвергать, опытами компромиссов — с обнаружением, что власть не собирается их заключать, она не договаривается, а предлагает лишь присягнуть в надежде, что присяга позволит выжить, — или опытами молчания настолько, насколько вообще есть возможность промолчать, насколько дарована милость не говорить чужим языком, чужими словами, — со своей стороны, прилагая все силы, чтобы этот язык звучал искренне, и, следовательно, присваивая его, переделывая себя: ведь искренность даже имитировать возможно лишь до некоторой степени самому, частью себя, веря в то, что имитируешь (и сохраняя свободу в удержании другого себя, внутреннего наблюдателя — из чего растет одна из ветвей советского стоицизма).
И по мере продвижения по тексту — читая простые (и временами не очень точные) биографические ремарки о Бунине и Бабеле, Мейерхольде и Мандельштаме, Булгакове и Эйзенштейне, а затем погружаясь в детальный разбор траектории Малевича — обнаруживаешь сложность простоты. Дихотомии «властителей» и «художников», «тоталитаризма» и «свободы», ритмически повторяясь, утрачивают свою однозначность — конкретность биографического, ситуаций личного выбора или стремления отказаться от последнего, размыкают простую схему. Противостояние не выстраивается, поскольку то, что уничтожает, оказывается и тем, что формирует, — и переплетается с соучастием:
«Даже те, кого революция, подобно Мейерхольду или Бабелю, просто раздавила, до последнего мгновения испытывали перед ней восхищение, считая себя ее невинными жертвами, но ни в коем случае не соучастниками ее преступлений; да, революция пожрала их, но прежде всего она же их и сформировала» (стр. 146).
Внешне странным, но в основании, напротив, более чем последовательным образом интерпретация Тодоровым пути Малевича оказывается созвучной эстетическим построениям Лифшица: смерть искусства в модернизме как конец пути, от которого возможен путь к новой фигуративности, противостояние конструктивизма и супрематизма как фундаментальный спор о возможности свести эстетическое к функциональному, подчинить его социальному — или особая природа искусства, самоценного и в этом своем качестве оказывающегося предельно полезным. Революция политическая и революция художественная (правый или левый радикализм в случае авангарда — не важно) оказываются одинаково подчинены стремлению к неизменной новизне, обновлению, что роднит их с природой — в смысле, творящей:
«Осип Брик <…> вспоминал один из своих разговоров с Малевичем. Художник сказал ему: “Существует какая-то природа, а хочу вместо этой природы создать супрематическую природу, построенную по законам супрематизма”. На вопрос, как люди будут жить в этом новом мире, он заявил: “Вы будете приспосабливаться так же, как к природе Господа Бога”» (стр. 164).
Для одних задачей художника будет выразить голос мира — быть тем, кто способен его услышать и передать так, чтобы он был услышан другими, как для Пастернака, в 1917 году писавшего: «…единственное, что в нашей власти, — это суметь не исказить голоса мира, звучащего в нас». И принимать революцию будет послушествовать звучащему голосу. Для других сама революция будет опытом другой, истинной природы — в 1918 году Малевич напишет:
«Разница между Богом и человеком та, что у Бога не возникает вопроса, для чего, почему. Его цель и жизнь — творчество, как дышит организм мой воздухом. К тому пришел и я».
И в этом пределе живопись исчезает, отменяясь, — предел найден, реален, в него уперся он со всей страстью, и остаются только теоретические трактаты. Чтобы затем, после ареста 1930 года и переживания отчаяния на лестнице подъезда, выйдя из тюрьмы и не найдя никого в доме, возвращаться к фигуративному, послушанию у мира.
К последней в своей жизни рассказываемой истории Тодоров сам задает вопрос — в чем основание пусть не его собственного интереса к ней (он многоразличен и частным образом обусловлен), но притязания на внимание читателя — спустя многие десятки лет после того, как все это было и успело стать прошлым, причем таким, которое очень далеко от любых реалий окружающего его читателей мира. Ответ, им даваемый, — не в совпадении современного с чем-то в прошлом, но в аналогии, которую высвечивает экстремальный опыт. В своей крайности он делает зримым то, что в рутине и норме остается незаметным. Если основанные на Просвещении идеалы истинны и современный мир их утверждает, если провозглашаемые цели и смыслы действительно есть добро в объективном смысле, а не с точки зрения верующих в них в таковом качестве, то это не избавляет от иной угрозы — «искушения добром»:
«Сегодня, как и раньше, продолжается процесс унификации, стандартизации, принуждения населения к единой модели поведения, что ведет к контролю общества над индивидом и тем самым к дегуманизации человека» (стр. 245).
Искусство в оптике Тодорова — отнюдь не некое благо само по себе, оно способно оказываться дегуманизирующей силой не реже, чем гуманизирующей. Но художник, кажется, в понимании Тодорова — тот, кто может оставаться собой, только оставаясь человеком: за произведением неизменно стоит его автор, вопреки Барту, — и, следовательно, в той мере, в какой искусство оказывается возможным, оно свидетельствует о сохранении человека, человеческого — так что сам факт существования произведения искусства говорит об авторе, о том, что человек уцелел.
Ц. Тодоров. Триумф художника / Пер. с фр. М. Троицкой. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018. 256 с.
Данное исследование было поддержано из средств субсидии, выделенной на реализацию Программы повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали
Вокруг горизонтали Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиВведение в самоорганизацию. Полина Патимова говорит с социологом Эллой Панеях об истории идеи, о сложных отношениях горизонтали с вертикалью и о том, как самоорганизация работала в России — до войны
15 сентября 202246160 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Общество
ОбществоФилософ Мария Бикбулатова о том, что делать с чувствами, охватившими многих на фоне военных событий, — и как перейти от эмоций к рациональному действию
1 марта 20225811 Общество
ОбществоГлеб Напреенко о том, на какой внутренней территории он может обнаружить себя в эти дни — по отношению к чувству Родины
1 марта 20225591 Литература
ЛитератураАнгло-немецкий и русско-украинский поэтический диалог Евгения Осташевского и Евгении Белорусец
1 марта 20225158 Общество
Общество Colta Specials
Colta Specials Театр
Театр Литература
Литература