 Искусство
ИскусствоПервое детство Нины Чекрыгиной
Выставка-лаборатория «Дети авангарда» открывает неизвестные страницы из коллекции Анатолия Бакушинского
29 июля 2021178 © Алексей Кузнецов
© Алексей КузнецовЯ верю в предчувствия.
Верю в колдунов, русалок, домовых, наяд, тритонов, в маленьких трудолюбивых гномов, в сильфид и пэри, в фей и драконов.
Верю в сны и судьбу. Верю в ангелов и двенадцать апостолов, в привидения, кентавров, в птицу Феникс и во все божественные чудеса.
Потому что со мной самим были чудеса, я видел чудеса. Я свидетельствую. Тейч Файв — ведь это значит Чудо, даже не одно, а Пять.
Анатолий Кузнецов. Из романа «Тейч Файв»
Сегодня писателю Анатолию Кузнецову исполнилось бы 85 лет. Он прожил сорок девять лет, девять месяцев и двадцать пять дней. Бóльшую часть жизни — с того времени, когда в 1957-м он начал публиковаться, — Кузнецов был писателем советским. Меньшую — последние десять лет, проживая в Великобритании, — писателем антисоветским.
Пока Кузнецов был писателем советским, в различных издательствах Советского Союза выходили его книги: «Продолжение легенды» (1958), «Селенга» (1961), «У себя дома» (1964). Он регулярно печатался в периодических изданиях — прежде всего в журнале «Юность», который стал его литературной alma mater, сочинял по своим книгам и сюжетам сценарии для кинофильмов, выступал на встречах с читателями. Вся эта многогранная деятельность приносила ему приличный — по советским, разумеется, меркам — доход. Жил, правда, не в Москве, а в Туле. В Москве для него, уроженца Киева, приличного жилья коммунистическая партия (членом которой Кузнецов состоял с 1955 года) не нашла. Но — в трехкомнатной квартире в «обкомовском» доме. Так что жаловаться на бытовые условия писателю было грех. Он и не жаловался. Он — писал.
Писал и публиковался, не испытывая вроде бы никаких особых проблем ни с большевистской цензурой, этим жутким намордником для любого мало-мальски одаренного советского литератора, ни с благосклонностью издательского начальства.
Так продолжалось до 1965 года, когда Анатолий Кузнецов принес в редакцию «Юности» рукопись своего нового сочинения — документального романа «Бабий Яр». О том, что ему довелось пережить подростком в оккупированном нацистами Киеве во время Второй мировой войны. Но не только об этом. А принеся, столкнулся с совсем другим отношением, нежели прежде. Поскольку написал он не то, чего от него ожидал правящий коммунистический режим, — не откровенную ложь про «героический подвиг советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками» и не полуправду, а правду чистую, можно сказать, дистиллированную. А правда для коммунистического режима всегда представляла самую страшную угрозу. Особенно опубликованная многотысячным тиражом.
История противостояния писателя Кузнецова с советской цензурой при подготовке «Бабьего Яра» к изданию хорошо известна, и я не стану эту историю лишний раз рассказывать. Поскольку не она является темой данного расследования. Публикация изуродованного советской цензурой текста в журнале «Юность» в 1966 году, а затем издание его в виде книги в 1967-м вызвали в душе автора такой сильный кризис, что он пришел к выводу о невозможности своего дальнейшего проживания на родине. И решил бежать.
Двадцать восьмого июля 1969 года, оказавшись в творческой командировке в Лондоне, Анатолий Кузнецов обратился к правительству Великобритании с просьбой о предоставлении ему политического убежища. Просьба была сразу же удовлетворена.
С этого момента для одних Анатолий Кузнецов стал героем, выбравшим свободу в чужой стране в обмен на отказ от всего, что у него было на родине; для других — негодяем и предателем, обманувшим советскую власть и предавшим ту самую родину, которая его якобы вскормила и воспитала.
 Анатолий Кузнецов, 1963
Анатолий Кузнецов, 1963«Казус Кузнецова» стал событием беспрецедентным. И не потому, что ничего подобного ранее не случалось, — годом раньше, летом 1968-го, воспользовавшись туристической поездкой в Венгрию, бежали на Запад литературовед, автор нашумевшей книги о Тынянове Аркадий Белинков и его жена Наталья, — но потому, что Кузнецов стал первым известным советским писателем-коммунистом, отказавшимся возвращаться в Советский Союз из-за границы, где оказался вполне легально (а не в результате каких-то форс-мажорных обстоятельств вроде Второй мировой войны и сопутствовавшей ей миграции огромных потоков населения). Решение о бегстве было Кузнецовым глубоко выношено, тщательно продумано и детально спланировано — с учетом всех возможных последствий этого поступка для него лично. (Думал ли он об остающихся в СССР родных и близких — матери Марии Федоровне, бывшей жене Ирине Марченко и их девятилетнем сыне Алексее? Был, видимо, уверен, что никого из них не арестуют и не посадят, и этого ему было достаточно.)
В этот летний день жизнь Анатолия Кузнецова раскололась на две неравные части. Позади осталась та, что была длиной без двух недель сорок лет, впереди — та, которая продлится без двух месяцев десять. В навсегда ушедшей остались пять изданных книг. В только что наступившей — одна. Главная. Свободная от цензуры внешней и внутренней. «Бабий Яр».
Но, как оказалось, главная книга Кузнецова была хотя и главной, но не единственной. Был еще один роман — не документальный, а, как определял его жанр сам автор, сюрреалистический. Под странным названием «Тейч Файв».
* * *
История перехода Анатолия Кузнецова на положение дефектора хорошо известна и ни в каких новых рассказах — тем более пересказах — не нуждается. Поскольку она уже описана — разными людьми, не один раз и с различных, в том числе диаметрально противоположных, позиций. Разумеется, наиболее интересно описание бегства советского писателя на «загнивающий Запад» выглядит тогда, когда оно вышло из-под пера очевидца. Да и не только очевидца — одного из главных действующих во всей этой истории персонажей.
Таковым, безусловно, является Леонид Владимиров (Финкельштейн; р. 1924). Советский журналист, сотрудник журнала «Знание — сила», Финкельштейн попал в Великобританию в июне 1966 года как турист. Увидев своими глазами, что окружающая его на брегах туманного Альбиона действительность существенно отличается от так памятной ему морозной заполярной свежести сталинского ГУЛАГа (в котором Леониду Владимировичу привелось оттянуть срок в послевоенные уже времена), Финкельштейн тремя годами ранее Кузнецова поступил точно таким же, как и тот, образом. То есть обратился к правительству Ее Величества с просьбой о политубежище.
Познакомившись с Кузнецовым в первый же день, когда тот отказался считать себя советским гражданином, Финкельштейн на все последующие годы стал одним из его ближайших друзей, а затем и коллег по работе — на «Радио Свобода», где в 1970-е годы Кузнецов выступал с беседами в рамках программы «Писатели у микрофона». Но все это было делом хотя и не очень отдаленного, но будущего. В первые же дни на свободе Финкельштейн оказывал Кузнецову услуги самого общего, бытового характера: помогал снять квартиру, открыть счет в банке, покупать продукты в магазинах, в конце концов. (Анатолий Кузнецов английским не владел вообще и изъясняться с представителями коренного населения мог только с помощью языка жестов — по крайней мере, в первые недели и месяцы своей английской жизни.) Поэтому в качестве источника информации о том, как складывалась жизнь Кузнецова в Лондоне после отказа возвращаться в СССР, Финкельштейн поистине бесценен.
* * *
Через год, осенью 1970-го, одно за другим стали выходить издания полного, бесцензурного романа «Бабий Яр» в переводах на разные мировые языки: английский, французский, немецкий, шведский. Тогда же, в ноябре, появилось и первое бесцензурное русское издание этой книги. Издание «Бабьего Яра» в переводах стало в европейском литературном, да и общественно-политическом контексте событием очень значимым. Книга получила множество восхищенных рецензий, очень хорошо раскупалась. Издатели, выдавшие Кузнецову весьма существенные авансы, отбили вложения сторицей и были очень собой довольны. И ждали от «этого хорошего русского» новых книг. Но Кузнецов ничего больше не предлагал. Говорил, что работает над новым романом, но когда текст будет готов — не знает. Это было совсем не по правилам мира чистогана, но что поделать — эти русские такие странные, такие загадочные, у них такая непонятная русская душа… Издателям оставалось только одно: терпеливо ждать.
О том, что Анатолий Кузнецов больше не может писать — не вообще, но так, как он привык, как умел делать это прежде, — долгое время не догадывались даже самые близкие к нему в ту пору люди. А он — не мог. Так, как раньше, казалось невыносимой халтурой. А по-другому он просто не умел. Хотел, но не получалось. А если и получалось, то не так, как он хотел. Это был капкан, в который беглый писатель загнал себя сам и из которого не мог вырваться.
Свидетельствует Леонид Владимиров — фрагмент из его воспоминаний, опубликованных в 1999 году в журнале «Время и мы»:
«После “Бабьего Яра” он не издал по-английски ни одной строки. Неудержимо читал — все, что я мог достать ему по-русски: Орвелла, Кестлера, Джойса, Бердяева, Шестова, Ильина, Зайцева, Газданова, Пастернака, Солженицына, Белинкова, Конквеста, Синявского, Даниэля... И все больше мрачнел. На мой осторожный вопрос, почему он не пишет, однажды ответил:
— Я теперь, почитав настоящих, понял, что мне марать бумагу нечего. А ведь думал, что — писатель…
Напрасно переводил я ему восхищенные рецензии на “Бабий Яр” <…> — он только досадливо вздыхал и старался сменить тему разговора.
 Анатолий Кузнецов у себя дома. Лондон, середина 1970-х годов© Алексей Кузнецов
Анатолий Кузнецов у себя дома. Лондон, середина 1970-х годов© Алексей КузнецовТак прошло несколько месяцев, но однажды, приехав в его новый дом <…> (собственный дом в лондонском районе Хайгейт был приобретен Кузнецовым в 1971 году на гонорары от издания романа “Бабий Яр” на английском и других языках. — П.М.), я увидел у него открытую машинку с листом бумаги. Он перехватил мой взгляд и признался, что — да, пытается сделать что-то совсем новое, не в стиле проклятого соцреализма. Еще месяца через полтора сунул мне в руки пачку машинописных страниц и ворчливо попросил:
— Если есть терпение — прочти это и скажи честно.
Он ушел вниз и не появлялся, пока я его не позвал. Рукопись называлась “Тейч файф”, была страниц на восемьдесят, и я не кривил душой, а отозвался без восторга. Сегодня, в дни так называемого постмодернизма, эта повесть, возможно, и прошла бы. Во всяком случае, она была ни капельки не хуже, чем романы Саши Соколова или, скажем, Нарбиковой. Но тогда мне показалось, что Толя просто “делал модерн” без особого смысла или глубины. И он, насколько мне известно, эту рукопись никому больше читать не давал».
Как говорится, сколько читателей — столько и мнений. Однако, с моей точки зрения, ни малейших параллелей в том, что доступно из кузнецовского романа «Тейч Файв», с тем, что вышло из-под пера упомянутых Леонидом Финкельштейном литераторов, не имеется. Скорее если эту прозу Анатолия Кузнецова с кем из его предшественников в российской литературе и сравнивать, то это, разумеется, Замятин. Которым кузнецовский текст отдает, и весьма. Возможно, это то, что в литературоведении принято именовать термином «реминисценция». Заимствование то есть, причем чаще всего неосознанное. А возможно, и то, что в парапсихологии обозначается как «подсознательная индукция» — настройка на одну волну с тем, кто получил нужную реципиенту информацию ранее.
Что же до утверждения Владимирова о том, что Кузнецов больше никому, кроме него, эту рукопись читать не давал, то тут уважаемый Леонид Владимирович заблуждается, и это совершенно точно. Давал. И много кому. И до, и после.
* * *
Год спустя в том же самом журнале «Время и мы», издававшемся в последний период своего существования между Нью-Йорком, где проживал его основатель и с 1975 года несменяемый главный редактор Виктор Перельман, и Москвой, где находилась формально возглавляемая Дмитрием Быковым редакция, появилась еще одна публикация про Анатолия Кузнецова. На этот раз — только про обстоятельства его бегства из СССР и переход на положение невозвращенца. Она так прямо и называлась — «Дело Анатолия Кузнецова». Автором был Владимир Батшев, бывший московский литератор и киносценарист, в 1995-м перебравшийся на ПМЖ в Германию; там он осел во Франкфурте-на-Майне и развил бурную писательско-издательскую деятельность, продолжающуюся и по сей день.
Внимание это сочинение привлекает прежде всего потому, что Батшев с самых первых его страниц утверждает, что с весны 1969 года на протяжении последних примерно пяти месяцев жизни Анатолия Кузнецова в СССР являлся его литературным секретарем. Исполняя всевозможные писательские поручения, бóльшая часть из которых приходилась на Москву, Батшев, приезжая в Тулу с отчетом о проделанной работе, имел возможность постоянно с Кузнецовым общаться, был, что называется, и свидетелем, и очевидцем. За что — по его словам — и был привлечен гэбистами к следствию по делу беглого писателя, когда это следствие началось. В качестве свидетеля.
Никаких оснований не верить Батшеву на слово лично у меня нет. Однако из имеющихся в моем распоряжении документов по «делу Кузнецова» известно, что в качестве литературного секретаря сбежавшего писателя на следствии фигурировала совсем другая персона — и не мужчина, а женщина: Надежда Цуркан. Впрочем, вполне возможно, что у писателя Анатолия Кузнецова было в 1969 году два литературных секретаря. Он был человеком по советским меркам уже совсем не бедным, так что мог себе это позволить.
* * *
В сочинении Владимира Батшева имеются довольно любопытные подробности относительно последних месяцев жизни Анатолия Кузнецова в Советском Союзе. Например, такие:
«Мы шли по Ясной Поляне.
Прошлогодние листья шуршали под ногами. Он прислонился к дереву и ткнул пальцем куда-то вперед.
— Там, — сказал он, и глаза его блеснули за очками, — там я закопал “Тейч файф”.
Когда мы вернулись, он ушел в кабинет, что-то двигал, искал, наконец вернулся с какими-то листами.
— На, читай.
— Вслух?
Он огляделся по сторонам, словно опасаясь подслушки. Хотя мы с ним тщательно осмотрели квартиру и в телефоне диск всегда был прижат спичкой...
— Давай.
— “Ведьм вывели на площадь. Оберштурмбанфюрер — член Политбюро взобрался на трибуну. — На кол их! Пи*дой на кол! — заревел он. В ответ заревела толпа”».
Если верить мемуаристу на слово (а не верить ему на слово, повторяю, у меня никаких оснований нет), советский писатель Кузнецов втайне от всех — прежде всего от родимой советской власти и ее недреманного ока — тайной полиции, прослушивавшей его квартирный телефон, — написал нечто настолько антисоветское, настолько особенное, что его литературный секретарь, ознакомившись с этим текстом, навсегда запомнил какие-то его фрагменты. Содержащие, как это явствует из приведенной Батшевым цитаты, ту самую лексику, которая недавно была формально запрещена в России к использованию так называемыми органами законодательной власти, в просторечии — Госдуркой Российской Федерации.
Я не могу это комментировать по двум причинам. Во-первых, потому, что процитированного мемуаристом фрагмента рукописи Кузнецова не читал (равно как и самой рукописи в глаза не видел). А во-вторых, потому, что весьма сильно сомневаюсь в том, что в данном случае мемуариста не подвела банально память. Поскольку ничего подобного приведенной им цитате опубликованный текст «Тейч Файв» не содержит, да и никакой надобности в использовании инвективной лексики не предполагает. Она там просто не видна — даже между строк.
Но это касается, разумеется, только впечатления от знакомства с опубликованным фрагментом пропавшего романа. Что может оказаться в нем помимо этого — вопрос без ответа. Во всяком случае, пока.
Кроме того, из приведенной цитаты вырисовывается вот еще какая закавыка.
На улице писатель доверительно сообщает своему секретарю, что манускрипт крамольного сочинения был им запрятан в близлежащем лесу, и делает неопределенный жест рукой, указывающий примерное направление, в котором следует его искать. А в доме не только выносит ему для ознакомления ту же самую рукопись (копию?), но и предлагает почитать ее вслух. И это при том, что он совершенно уверен, что его квартирный телефон прослушивается тайной полицией (иначе для чего бы ему осуществлять с ним такие наивные манипуляции по предотвращению прослушки, как фиксирование сдвинутого телефонного диска карандашом?). И где здесь логика — как сказал бы тот самый булгаковский персонаж, который страсть как любил совать свой любопытный нос в чужие дела…
* * *
Ознакомившись с двумя этими мемуарными сочинениями, любой внимательный читатель сразу же задаст себе вопрос: а где же все-таки был Кузнецовым сюрреалистический роман написан? Уже в Англии, в хайгейтском доме, как об этом пишет Леонид Владимиров, — или еще в Советском Союзе, в тульской квартире, как утверждает Владимир Батшев?
Вопрос отнюдь не праздный. И немаловажный. Поскольку если Кузнецов писал «Тейч Файв» уже в Англии, имея возможность взять в руки книги того же Орвелла или Замятина и вольно или невольно этим коллегам по ремеслу подражать, — это одно. Если же он писал его в Туле, понятия не имея ни о каких «1984» или «Мы», а двигаясь по наитию, на ощупь, извлекая текст из ниоткуда, — это другое.
Для того чтобы на этот вопрос ответить, лучше и проще всего не заниматься логическими построениями, анализируя степень аберрации памяти того или иного мемуариста, а переадресовать его тому, кому на него сподручнее всего отвечать. То есть самому Анатолию Кузнецову.
* * *
В 2004 году в издающемся в Израиле русскоязычном журнале «22» («Двадцать два») были опубликованы девятнадцать писем, написанных Анатолием Кузнецовым в 1964—1971 годах его израильскому корреспонденту Шломо Эвен-Шошану.
Шломо Эвен-Шошан (1910—2004) — уроженец Российской империи, белорусский еврей, оказавшийся в Палестине в юности, в 1925 году. После образования Государства Израиль стал израильским переводчиком и редактором; переводил русскую и советскую прозу и поэзию с идиша и русского на иврит (Михаила Салтыкова-Щедрина, Александра Бека, Константина Симонова, Василия Аксенова, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского и др.). В 1964 году, начиная работу над переводом кузнецовского «Продолжения легенды», написал автору книги на адрес советского издательства. Кузнецов ответил, завязалась продолжавшаяся семь лет переписка. За эти годы Эвен-Шошан перевел не только «Легенду», но и первый, советской цензурой изуродованный при публикации вариант «Бабьего Яра». Когда же автор романа-документа выбрал свободу и остался в Англии, в Лондоне, Эвен-Шошан стал переводчиком и полного, бесцензурного текста «Бабьего Яра». Там же, в Лондоне, они и познакомились очно, когда израильский переводчик приезжал в британскую столицу специально для того, чтобы встретиться со своим русским другом.
 Анатолий Кузнецов у себя дома. Лондон, середина 1970-х годов© Алексей Кузнецов
Анатолий Кузнецов у себя дома. Лондон, середина 1970-х годов© Алексей КузнецовЕще до этой встречи, состоявшейся осенью 1970 года, в преддверии начала продаж «Бабьего Яра» в переводах на основные европейские языки, Кузнецов написал Эвен-Шошану несколько писем. В них он обсуждал со своим израильским переводчиком дела, связанные с его работой над подготовкой к изданию полного текста романа, а также и свои планы на ближайшее будущее. В письме, отправленном из Лондона 7 апреля 1970 года, и содержится ответ на ранее сформулированный мною вопрос:
«Сам же я <…> полтора месяца сидел, затворившись от мира, и писал, вернее, снимал с пленки и приводил в божеский вид другую вещь, сюрреалистическую, — “Тейч Файв”, которую написал по ночам в Туле, весьма необычную, что-то в традициях Кафки и Орвелла, и так с ней измотался, что даже заболел. Сейчас пока читают друзья в Лондоне, говорят, что здорово, но я пока ничего не знаю».
Выходит, что сюрреалистический роман был написан именно в Советском Союзе, а в Англии Кузнецов его только редактировал (возможно, частично переписывал), приводя текст, как он писал Эвен-Шошану, «в божеский вид». И происходило это еще не в хайгейтском его доме, купленном год спустя, а на одной из съемных квартир, на которых беглый писатель проживал в течение первых полутора лет своего английского десятилетия.
Полагаю, вопрос закрыт.
* * *
В январе 1970 года в Лондоне состоялась конференция, организованная западными славистами и советологами, а также советскими перебежчиками и невозвращенцами, на тему «Цензура в СССР». В мероприятии приняли участие виднейшие из оказавшихся тогда на Западе невозвращенцев — в первую очередь писатели Аркадий Белинков, Анатолий Кузнецов и Михаил Демин (он же Георгий Трифонов). Западную сторону представляли Макс Хэйворд, Джин Сосин и другие. По итогам конференции было решено начать издавать собственный журнал, призванный выражать точку зрения новейших эмигрантов из Советского Союза на происходящие в политике и социуме события. Редактором-составителем журнала, получившего многозначительное название «Новый колокол», был избран Аркадий Белинков.
Белинков, бежавший из СССР годом раньше Кузнецова, был человеком, мягко говоря, далеко не блестящего здоровья. Отягощенный врожденным пороком сердца и двенадцатью годами сталинского ГУЛАГа, он жил, что называется, одним днем. Едва начав собирать материалы для первого номера, 48-летний Белинков скончался от инфаркта. На месте главного редактора его заменила вдова — Наталья Белинкова. На то, чтобы собрать материалы и подготовить их к публикации, потребовалось около двух лет. Изданию сборника постоянно мешали коллеги-эмигранты — как активисты военной, второй волны, так и персонажи из все еще активничающих остатков волны первой, белогвардейской. Считая себя единственными выразителями некого обобщенного мнения всего русского зарубежья, всех прочих они воспринимали как агентов-провокаторов, засылаемых на Запад вездесущим ГПУ. Которое с тех пор, как сумело их навсегда смертельно напугать, уже несколько раз сменило вывеску, но все равно оставалось в их глазах таким же страшным жупелом, как и во времена похищения генералов Кутепова и Миллера.

Наконец в 1972 году «Новый колокол» вышел из печати. Первый его номер, однако, оказался не только первым, но и единственным. Издание это, давным-давно ставшее абсолютной библиографической редкостью, знаменито прежде всего тем, что именно здесь был опубликован фрагмент из романа Анатолия Кузнецова «Тейч Файв».
Был он небольшой — пол-листа — и не очень связный. Подзаголовок информировал читателя, что ему предлагаются «главы из романа». Публикация и выглядела как подборка отрывков, начинающаяся неожиданно и кончающаяся внезапно. Но нота, на которой обрывался этот текст, звенела настолько странно, настолько тревожно, что прочитанное озадачивало неподготовленного к такому Кузнецову читателя не меньше, чем поразил полный текст «Бабьего Яра» тех, кто первоначально имел удивительную — применительно к условиям жизни в СССР — возможность читать хотя и изуродованный цензурой, но все же совершенно невозможный — непредставимый — роман-документ в советском журнале «Юность».
* * *
В 1980-х годах советский журналист-невозвращенец Владимир Матусевич (о котором речь впереди) охарактеризовал опубликованный в «Новом колоколе» текст Кузнецова словосочетанием «проза потока сознания».
Пусть так. Но — что это такое?
По моему субъективному разумению, проза потока сознания — это вот что:
«Говоров выступал в Конгрессе:
— Половина бюджета более пятидесяти миллионов на содержание бюрократии например когда меня в командировку в Нью-Йорк я с удивлением что там в нашем бюро четыре директора у каждого свой офис своя секретарша что они мне никто не смог в Гамбурге на каждого журналиста в общей сложности по одному начальнику мало того еще специальный штат чтоб эту свору для чего Радио чтоб передачи кто передачи журналисты но видимо а у меня давно впечатление что Радио только для удобства американских наша контора в Гамбурге это их теплое насиженное каждый из них там огромную зарплату на деньги которые на оплату жилья бюрократии можно три парижских бюро по капризу начальства им дома и квартиры и в то же время куцый бюджет для внештатников кто и как программы это никого не е. Пелл где его самоуверенность где его пузо он перед Конгрессом когда с должности с мокрыми штанами что он в советской жизни что он о России?! Вот попросите его показать на карте где находится Владивосток!
— Позор мистеру Пеллу! — гневно прогудел конгрессмен из Айовы. — Все знают, что Владивосток в штате Индиана!»
Похоже? Похоже. Именно что — поток. Но ведь действие-то в приведенном тексте творится у выступающего персонажа в голове — во сне. Это во сне он в Конгрессе США обличительную речугу толкает — про хаос и бардак, на Радио (имеется в виду радиостанция «Свобода») творящиеся. Это его ночные кошмары одолевают. А во сне какие уж там синтаксис с пунктуацией — на то он и сон, чтобы и точки в строчках пропадали, где не надо, и запятые отсутствовали, и глаголы исчезали, и подлежащие менялись местами со сказуемыми…
Действие же в том фрагменте из романа «Тейч Файв», что опубликован в «Новом колоколе», происходит где угодно, только не во сне. И выглядит он совсем не как поток сознания. Причем местами даже не как беллетристика, но как публицистика:
«Наиболее распространенная степень ужаса наступает, когда у вас в душе уже не осталось живого места, вы видите, что вокруг только низость, ханжество, жестокость, садизм. Вы все понимаете и ничего не в силах сделать, кроме самоубийства.
Вторая степень ужаса — когда вам ломают кости, раздирают рот, бьют в пах, ломают ребра каблуками и вешают за половые органы или, взяв за ноги, разрывают пополам, как это делали солдаты советские с солдатами власовскими, когда те попадали к ним в плен.
Третья степень — вы продаете единственного друга, любимого человека, родную мать и при этом умоляете, чтобы никто об этом не узнал, за что готовы служить нижайше и тайно продавать всех отныне и навсегда.
Четвертая степень — от вашей личности не осталось ничего, вы, как робот, делаете и говорите все, что вам велят, подписываете любые протоколы, даете любые показания, вы больше не имеете ума и надежды.
Пятая степень ужаса — предстоит.
Ее приход возможен скоро. Не верится? Давайте встретимся, как предлагал бравый солдат Швейк, в шесть часов вечера после грядущей войны».
Рассуждать об этом тексте вообще довольно сложно. Гораздо проще прочитать. Тем более что текст доступен в интернете. Однако без того, чтобы хотя бы бегло рассказать — про что там, все же не обойтись.
Действие в сюрреалистическом романе «Тейч Файв» происходит в некоем не называемом по имени государстве, напоминающем собой чудовищный гибрид из сталинской Совдепии и гитлеровского Третьего рейха. То и дело возникающие в тексте топонимы представляют собой безумный калейдоскоп из общеизвестных мест в разных странах и городах, сваленных в одну большую кучу. Первая же фраза, которой текст начинается, выглядит так: «Это произошло в Токио, в районе Елисейских Полей, между Бродвеем, Пикадилли и Красной площадью». Собственно, дальше можно и не продолжать. Потому что то, что в этом сочинении происходит, на первый взгляд, очень похоже на еще один кошмарный сон. Но не такой смешной, как у бывшего советского писателя Анатолия Гладилина, выгнанного в 1988 году американскими начальниками с насиженного кресла парижского редактора культурных программ «Радио Свобода» — за то, что имел наглость публично этому самому начальству хамить, требуя от мистера Пелла (президента корпорации «Радио Свобода» / «Свободная Европа») показать на карте, где находится город Владивосток, а мистер Пелл, ничтоже сумняшеся, тыкал пальцем в город Ленинград и над ним все русские сотрудники смеялись… Сны вообще довольно сложно пересказывать. Особенно чужие.
Если коротко, в нескольких фразах, то сюжет романа «Тейч Файв» таков. Человек, которому не повезло родиться в сверхтоталитарном обществе, обречен. На уничтожение. Но он может попытаться от гибели спастись, если сумеет обрести любовь. Герой Кузнецова — по имени не называемый, хотя рассказ ведется от первого лица, — любовь обретает. Его любимая (у нее, в отличие от него, имя есть, и это имя — У.) становится для него единственным стимулом бороться за жизнь. Они пытаются сбежать из окружающего со всех сторон гигантского концлагеря, хотя и понимают, что шансы их невелики. Попытки спасения обречены на провал, но иногда происходит чудо. В которое они верят и на которое надеются.
Дальнейшее развитие сюжета (если сюжет таковое имел) осталось за рамками опубликованного фрагмента.
* * *
После публикации «Попытки спасения» в альманахе «Новый колокол» беллетристика Анатолия Кузнецова появилась в зарубежной русскоязычной периодике при его жизни еще только один раз. В 1973 году в нью-йоркском «Новом журнале» был опубликован его рассказ «Августовский день» — полностью переписанный автором по сравнению с тем, что было напечатано с этим же названием в Советском Союзе в 1962-м.
Это была последняя прижизненная публикация Кузнецова. Он замолчал. Как оказалось — навсегда.
* * *
После того как Кузнецов перестал публиковаться, его еще долго доставали западные журналисты. Что с писателем стряслось, отчего вдруг замолчал? И это — после бурного успеха «Бабьего Яра», вышедшего в переводах на все основные европейские и мировые языки.
Кузнецов от неприятных вопросов не уклонялся, беседовал со всеми, отвечал подробно, без раздражения. Смысл его ответов неизменно был один и тот же: он не может и не хочет продолжать писать так, как делал это, работая в советской литературе, а делать это по-другому у него просто не получается. Поэтому больше не считает себя писателем, а считает публицистом. Рассказывает радиослушателям на родине о том, как до побега там жил он сам, и о том, как стал жить после того, как остался в Англии; у слушателей имеется возможность анализировать то, что он рассказывает, сравнивать его рассказы о жизни в Англии с тем, как живут они сами, — и делать выводы. И все. Этого ему достаточно.
Западные журналисты от таких ответов приходили в еще большее недоумение и еще сильнее приставали с наводящими вопросами. По всему выходит, что у писателя затянувшийся творческий кризис. А если так, то в чем причина? Быть может, в том, что, как они где-то не то читали, не то слышали, русский человек просто так устроен, что не может жить и творить вне России? Или, может, писатель и годы спустя не в силах преодолеть сильнейший психологический шок от последствий принятого им решения не возвращаться на родину, где у него остались родные и близкие, мать и сын? И, кстати, как у него дела в личной жизни сейчас?
Особенно длительным выдался разговор Кузнецова с корреспондентом шведской газеты «Экспрессен»; это интервью было опубликовано в 1975 году.
Через несколько лет после смерти Анатолия Кузнецова, уже в 1980-е, начальник Лондонского бюро «Радио Свобода» Владимир «Матус» Матусевич (1937—2009), в будущем — главный редактор Русской службы «Свободы» в «золотой век» (1988—1992) этой радиостанции, сочиняя скрипт для мемориальной передачи о покойном коллеге, припомнил именно это интервью. Матус, человек по натуре злобный и хамоватый — из тех, что на вопрос страждущего знакомого: «Нет ли у вас чего-нибудь от головной боли?» — радостно отвечают: «Есть! Гильотина», — но обладавший звериным чутьем на любую фальшь, припомнил этому шведу-репортеру все. Абсолютно все — и идиотские, с точки зрения его, Матуса, вопросы про личную жизнь Кузнецова, и наивное предположение, что причины молчания русского писателя лежат где-то в том месте, где у русского человека находится его «загадочная славянская душа», и упорное нежелание понять, что писатель может перестать писать романы — и быть от этого не менее счастливым человеком, чем он был тогда, когда романы писал…
Не обошел Матус в своем некрологе и пропавший роман.
Упомянув о том, что, оказавшись на свободе (без кавычек), Кузнецов «попробовал свои силы в экспериментальной, модернистской прозе, дорвавшись до “запретного плода”, в неистовом упоении своей полной и безоговорочной раскрепощенностью», и приведя в пример ту самую публикацию в альманахе «Новый колокол», начальник безжалостно припечатал: «И впрямь — плохо. По-ученически беспомощное повторение так называемой прозы потока сознания». А что тогда — по Матусу — хорошо? А хорошо — по Матусу — было вот что:
«Он приходил к микрофону с обнаженной душой, беззащитный в своем доверии к слушателям, своем всепроникающем желании поведать о светлой радости бытия. О пронзительном счастье, что испытывал он, собирая грибы в английском лесу или бродя босиком по кромке морского прибоя. Или обзаведясь новой игрушкой — хитроумной пишущей машинкой. И боль его, гнев, с какими говорил он о проклятой скудости советского бытия — духовной, материальной, социальной, — они были суть отчаяние доброго, совестливого человека, который не может примириться с мыслью, что вот он — бессилен разделить простейшую, насущнейшую радость свободы со своими соотечественниками».
Красиво сказано, верно? Только разве одна — прошу прощения за употребление этого насквозь затертого литературного штампа — писательская ипостась отменяет другую? Разве нельзя быть классным публицистом, пишущим для так называемых широких масс, не отличающихся высоким интеллектуальным уровнем, неспособных отличить Кафку от Джойса и свято уверенных в том, что Камю — марка французского коньяка и только, — и при этом писать ту самую «экспериментальную, модернистскую прозу», пребывая «в неистовом упоении своей полной и безоговорочной раскрепощенностью»? Why not, как говорят по ту сторону Атлантического океана. А кто станет ее, этой экспериментальной прозы, читателем — как говорится по сторону эту, уже другой вопрос. Вероятнее всего, тот и станет, кто любит эксперименты, в том числе и чисто лингвистические.
Но для Владимира Матусевича Кузнецов был в первую очередь автором «Бабьего Яра», а во вторую — радиоскриптов, писавшихся на пленку в Лондоне и транслировавшихся в эфир из Мюнхена. Поэтому и утверждал Матус в своей заметке:
«Когда издадут хотя бы томик избранных его радиобесед, станет очевидно: сетования на творческий кризис — глупость. Умер мастер — в зените, в расцвете литературного своего и человеческого дара».
И был, несомненно, прав.
* * *
Вскоре после публикации фрагмента сюрреалистического романа в «Новом колоколе» Анатолий Кузнецов отношение к этому сочинению изменил. Вследствие чего, под воздействием каких именно обстоятельств это произошло — пока неизвестно. По-видимому, публикация подверглась или уничтожающей критике со стороны кого-то из наиболее близких ему людей, к чьему мнению он если и не прислушивался, то ценил его (их) за участие в устройстве своей жизни на новом месте, либо случилось нечто гораздо более, если так можно выразиться, прозаическое. А именно: изменение собственного мировоззрения писателя в результате пересмотра отношения к тому, что он писал прежде, и построение каких-то планов на то, что он намеревался писать в будущем. Причем в этом гипотетическом будущем тому, что он написал прежде (за исключением «Бабьего Яра»), места просто не было. И это не мои досужие домыслы. Это слова самого Анатолия Кузнецова, произнесенные им перед микрофоном в лондонской студии «Радио Свобода».
Тема очередной радиобеседы — «Труд писателя там и здесь». Эфир — 13 января 1973 года:
«Покидая СССР, я переснял свои рукописи на пленки и думал: если удастся побег, то уж я все это первым делом напечатаю. От издателей отбоя не было.
Прежде всего мой литературный агент попросил список, и я составил только для начала список из семи книг (курсив мой. — П.М.), в общем готовых, только перевести с пленки в машинописный вид.
Из этого списка я выполнил номер один — полный “Бабий Яр”. Это было единственное, что более или менее стоило сделать, и то не обязательно. Сегодня я бы все прописал заново, вычистив хвосты моих былых советских представлений».
И тут же — без каких-либо оговорок или же недосказанностей — следует безжалостное признание:
«Затем я приготовил вторую книгу, сюрреалистический роман “Тейч Файв”; успел, к несчастью, опубликовать в журнале отрывок из него... и осекся. Это был момент, когда я и увидел, что я еще не писатель, а только бывший член СП СССР.
С “Тейч Файвом” было банально-примитивно. Почитали рукопись один, другой, в меру хвалили, но сказали, что это, в общем, на уровне подражаний Замятину и Оруэллу. Я писал это в глубокой тайне, по ночам, в своей квартире в городе Туле и понятия не имел, что какие-то Замятин или Оруэлл вообще существуют на свете. Сегодня могу сказать, что называться современным русским писателем и не знать, что существовали Замятин и Оруэлл, — это все равно что называться поэтом, не зная, что ли, что были Лермонтов и Блок, мучительно изобретать паровоз, не зная, что по дорогам бегают тепловозы и электровозы. Я, благословенный советский писатель, в своей благословенной Туле, работая с риском, по ночам, изобрел велосипед, причем по конструкции хуже, чем те, которые в Лондоне сотнями пылятся по магазинам, восемь-одиннадцать фунтов штука. Восемь фунтов — это дневной заработок водителя лондонского автобуса. Да».
Н-да... Когда писатель сравнивает свой труд с трудом водителя автобуса — это выглядит как диагноз. Себе. И ни в каких комментариях не нуждается.
Текст, писавшийся в глубокой тайне, с риском если не для жизни, то уж, во всяком случае, для социального статуса, — это ни при каких обстоятельствах не подходящее сравнение с заново изобретенным велосипедом, да к тому же дурной конструкции. То есть оно подходящее, конечно, но только для какого-нибудь злопыхателя-критика, который подался в критиканы по той простой причине, что податься в писатели ему не привелось вследствие полнейшего отсутствия таланта. Но если такие сравнения использует сам автор — дело швах. Это приговор. А после приговора обычно следует приведение его в исполнение. Применительно к рукописям оно чаще всего оборачивается тем, против чего так яростно протестовал булгаковский Воланд. И не говорите, что они не горят. Это смотря как в огонь кидать. Если одной толстой пачкой, туго перевязанной бечевкой и упакованной в картонную папку с ботиночными тесемками, — тогда да, придется повозиться. А если по одному листочку, да кочергой то и дело помешивая, — так за милую душу.
Разумеется, я не утверждаю, что Кузнецов уничтожил рукопись романа «Тейч Файв». Не имею для этого никаких сколько-нибудь достоверных сведений. Но не сомневаюсь в том, что он мог это сделать.
* * *
Прекратив публиковаться в периодике русского зарубежья, Анатолий Кузнецов прожил еще пять с половиной лет. Что он писал в эти последние годы, кроме еженедельных скриптов для радио объемом по четыре с половиной страницы машинописи каждый? Ответа на этот вопрос у меня нет. Возможно, ничего не писал. За исключением частных писем друзьям и знакомым и обязательных почти ежедневных почтовых открыток матери в Киев. Вел ли дневник, как это имеют обыкновение делать многие литераторы (хотя и далеко не все)? Не могу сказать. Не знаю.
Для того чтобы получить ответы на эти вопросы, необходимо задавать их тем, кто окружал Кузнецова в последние годы его жизни в Лондоне. Таких людей — принимая во внимание фактор времени — осталось очень мало. Как говорится, по пальцам пересчитать — лишние останутся.
Леонид Владимиров, по-видимому, о своих отношениях с Анатолием Кузнецовым написал все, что хотел, и написал давно. В его мемуарном очерке на интересующие меня вопросы ответа, к сожалению, нет. К тому же в последние без малого два года жизни Кузнецова (с августа 1977-го и до самого финала) Владимиров жил и работал не в Лондоне, а в Мюнхене, и виделись они редко. Их последняя встреча произошла дня за три или за четыре до внезапной смерти Кузнецова, когда Владимиров приезжал в Лондон.
Быть может, ознакомившись с данным филологическим расследованием, он захочет что-нибудь на обозначенную в нем тему припомнить и рассказать еще? Я был бы Леониду Владимировичу за это безмерно благодарен. Полагаю, не я один.
* * *
Писатель Анатолий Кузнецов умер в Лондоне 13 июня 1979 года. У себя дома, через несколько дней после выхода из госпиталя, в котором он находился около месяца с подозрением на острую сердечную недостаточность. От третьего инфаркта.
Предыдущие два случились осенью 1978-го. После второго наступила клиническая смерть, из которой Кузнецова английские кардиологи вытащили чудом.
За несколько дней до первого инфаркта, поразившего писателя 5 сентября 1978 года, его подруга Иоланта забеременела. В мае 1979-го, во время повторного пребывания его в госпитале, родилась дочь. Согласно утверждению Леонида Финкельштейна, после этого Кузнецов принял решение узаконить свои многолетние партнерские отношения с Иолантой — и прямо в больничной палате состоялась церемония бракосочетания. Невеста оставила свою прежнюю, от первого мужа-англичанина доставшуюся ей фамилию — Райт. Дочь назвали Марией. В момент смерти отца ей не исполнилось и месяца. Овдовев, Иоланта дала дочери свою фамилию.
Стало быть, если оригинал манускрипта сохранился, его следует искать в том, что можно определить словосочетанием «домашний архив Анатолия Кузнецова». А он может находиться только у Марии Райт-Кузнецовой (вдовы Кузнецова уже нет в живых). Хотя не исключена и вероятность, что архивные бумаги покойного писателя можно обнаружить в каком-нибудь британском университете: мало ли там славистов, может статься, кто и диссертацию на судьбе писателя-перебежчика из СССР сочинил...
* * *
Ну и, наконец, самое во всей этой истории любопытное.
Отчего пропавший роман «Тейч Файв» называется именно «Тейч Файв»? Что это название, это типично англоязычное — во всяком случае, для любого русскоязычного уха — словосочетание означает? И как можно его интерпретировать, особенно не имея возможности ознакомиться с полным текстом этого произведения?
И на этот вопрос ответить однозначно нельзя.
Самое простое, первым делом в голову приходящее соображение совпадает с тем, что высказал сын писателя — журналист «Радио Свобода» Алексей Кузнецов:
«Думаю, с названием все просто. “Take Five” — это джазовая композиция в размере 5/4, записанная квартетом Дейва Брубека в 1959 году. Написал ее Пол Дезмонд, и в те времена она считалась — и считается сейчас — одной из самых оригинальных джазовых вещей. Можно сказать, символом джаза. Отец джаз любил и знал в нем толк. Ну и книгу полагал вариацией на джазовые темы».
В самом деле. Этот вариант объяснения лежит, как говорится, на поверхности. Но он не представляется мне ни единственным, ни тем более единственно верным. Во-первых, потому, что у Анатолия Кузнецова использовано не английское take, а taich (или же taych), а такого слова в английском языке — если это только не какой-либо имеющий узкое применение сленг — просто не существует. Во-вторых, джаз, как говорится, джазом, но только вот фрагмент романа, который я приспособил к своему расследованию в качестве эпиграфа, намекает на нечто иное («Тейч Файв — ведь это значит Чудо, даже не одно, а Пять».) Обратите внимание на прописные буквы.
Как можно это интерпретировать? Один вариант — самый простой — это проведение параллели с названием автобиографического романа американского писателя Курта Воннегута «Бойня Номер Пять, или Крестовый поход детей». Эта книга вышла в США в марте 1969-го, когда Кузнецов готовился к бегству из СССР. Соответственно, не владевший английским советский писатель у себя на родине прочесть ее не мог. Читал ли он Воннегута после того, как остался в Великобритании, — в переводе на русский? Очень может быть, что и читал. Но какие ассоциации вызвало у него прочитанное — и вызвало ли вообще — неизвестно.
Поэтому мне ближе вариант другой. Гораздо менее простой — или, если угодно, гораздо более непростой.
Словосочетание «Тейч Файв» странным образом соотносится с «Тайч-Хумеш» (буквально «Пятикнижие на языке тайч», то есть на идише). «Тайч-Хумеш» — пересказ Пятикнижия (Торы) с комментариями, составленный на идише Янкевом бен Ицхоком из Янова около 1600 года. Во времена своего киевского детства Кузнецов постоянно слышал идиш, среди его друзей были евреи (чего стоит один только Шурка Маца из «Бабьего Яра»), и, возможно, их общий дворовый сленг включал какое-то количество слов на идише. Вряд ли среди этих слов было выражение «Тайч-Хумеш», но заядлый читатель Толик Кузнецов, скорее всего, знал о существовании этой книги, которая переиздавалась более двухсот раз и была чрезвычайно популярна среди еврейских женщин благодаря легкому языку и занимательности изложения. Поэтому название сюрреалистического романа Кузнецова может быть почти что джойсовским каламбуром, включающим в себя и «Take Five» Дейва Брубека, и «Тайч-Хумеш» Янкева бен Ицхока.
Вот такая версия. Полагаю, что имеющая, несмотря на всю свою оригинальность, право на существование. А является ли она верной, может быть установлено не ранее, чем будет обнаружен, прочитан и опубликован полный текст романа «Тейч Файв».
На этом предлагаю временно поставить точку. Но такую, которая с запятой. Поскольку разговор не исчерпан. И он будет продолжен.
 Памятник Анатолию Кузнецову в Киеве© artukraine.com.ua
Памятник Анатолию Кузнецову в Киеве© artukraine.com.uaАвтор выражает признательность Игорю Булатовскому и Андрею Никитину-Перенскому — за всестороннее содействие в подготовке филологического расследования.
Особая благодарность Алексею Кузнецову — за сохранение памяти об отце и неустанную заботу о том, чтобы его творческое наследие было доступно тем, кто еще не разучился читать правильные книги. А также за иллюстративные материалы, любезно предоставленные для данной публикации.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Искусство
ИскусствоВыставка-лаборатория «Дети авангарда» открывает неизвестные страницы из коллекции Анатолия Бакушинского
29 июля 2021178 Литература
Литература Искусство
Искусство Академическая музыка
Академическая музыка Литература
Литература Литература
Литература Кино
Кино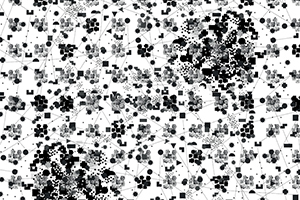 Общество
ОбществоМихаил Маяцкий о том, что может случиться с Россией через тридцать лет — или хотелось бы, чтобы случилось. Текст из новой книги «Россия-2050. Утопии и прогнозы»
23 июля 2021301 Общество
Общество Искусство
Искусство Литература
Литература Искусство
Искусство