 Общество
ОбществоГнев и поляризация в соцсетях: это не мы такие, это медиа такая

Андрей Мирошниченко объясняет, что агрессия в соцсетях — это просто чужой бизнес. И призывает к осознанию этого факта и регуманизации
27 ноября 2020385 © Михаил Квасов / Коммерсантъ
© Михаил Квасов / Коммерсантъ«Once a dream did weave a shade,
O'er my Angel-guarded bed…»
«A dream», William Blake
Имена героев изменены.
Разговор о церкви зашел уже сильно за полночь, когда вино в доме кончилось и все согласились на чай и кофе. На столе оставались еще французская колбаса, паштеты и пахучий сыр, привезенные хозяйкой из недавней поездки. И сыр, и паштеты, и колбасу все очень хвалили и, конечно же, очень ругали текущее положение дел в России, а поскольку публика вся была читающая, то обсуждались в основном новости и резонансные публикации. Заговорили вдруг о книге бывшей послушницы малоярославского монастыря. Главы из нее недавно разошлись в интернете. В этой исповеди послушница рассказала о деспотии настоятельницы, унижениях, издевательствах, слежке и доносительстве, которые царили в монастыре. Публикация наделала много шума: одни привычно осудили Русскую православную церковь, другие встали на ее защиту. Не все поверили и в правдивость рассказа, особенно среди верующих, а один протоиерей даже выступил со статьей, в которой предупредил, что чтением подобных историй можно «перепачкать» свою душу.
В описываемый вечер защитников церкви среди нас не было.
— Ну а что вы хотите от наших монастырей? Каков поп, таков и приход!
— У нас какое государство, такая и церковь.
— Вы знаете, а мне даже в храмах наших не очень. В католическом храме все же совсем другая атмосфера, орган, присесть можно. У нас же службу отстоять — уже испытание.
— Просто наша церковь закостенела и не развивается. Не для людей.
— У Лескова хорошая фраза была: «Христианство на Руси еще не проповедовали».
— А эта инициатива о запрете абортов?
— Там не запрет. Просто предложили убрать аборты из обязательной системы страхования. Что сразу «запрет»? Вечно какая-то истерика возникает.
— Всего лишь вынос из страхования! С таким лицом про аборты только мужчина может сказать!
— Так, у всех нормальные лица.
— Католическая церковь тоже против абортов.
— Да, но папа Франциск разрешил же прощать аборты на исповеди.
— Он только до ноября разрешил! Я католик, я знаю.
— Это как так до ноября?
— Ты католик?
— Где католик? Кто католик? Вы правда католик?
— Ну что вы его слушаете, он выпил. Вставай, католик. Домой пора.
— Посидите еще!
— Так а что там с этой исповедью?
— Да обычная история. Что нам там, что-то новое рассказали? Вон даже у Бешлей была история, как она в воскресной школе порнографию смотрела.
Все страшно оживились, а я подавилась рыбой и никак не могла объяснить, что никакой порнографии я в воскресной школе, конечно же, не смотрела, а история была совсем не о том.
— Да Бешлей и в хоре церковном пела.
Ни в каком хоре я не пела, а только мечтала об этом. Я начала было объяснять, но тут еще кто-то вспомнил, что я где-то писала о батюшке, который читал в школах лекции про гомосексуализм. Батюшка такой действительно был, только лекции он читал про значение брака и пагубность однополых отношений.
— Короче! Все было не так! — объявила я наконец.
После чего пришлось рассказать, как все было на самом деле.
— Где католик? Кто католик? Вы правда католик? — Ну что вы его слушаете, он выпил. Вставай, католик. Домой пора.
Отец Александр пленил меня с первой же нашей встречи. Мне было года четыре, когда мать пригласила батюшку к нам домой. Жили мы тогда в обшарпанной многоэтажке, где нашей семье из четырех человек выделили однокомнатную квартиру. У нас был пятый этаж с выжженной кнопкой в лифте, но я почему-то всем во дворе говорила, что живу на пятнадцатом, хотя такого этажа в доме не было.
Мои родители — люди крещеные, но в церковь ходила лишь мама, и то по большим праздникам. Когда я стала задавать вопросы о происхождении мира, мне объяснили, что Землю и все живое сотворил Бог, что Бог этот живет где-то на небесах, а чтобы поговорить с ним, нужно пойти в церковь. Узнав, что у Бога можно что-нибудь попросить, я очень воодушевилась, но, выяснив, что желаемое не будет исполнено в тот же миг, потеряла к Создателю интерес.
За несколько дней до прихода священника мать потравила в кухне тараканов, и в квартире стоял запах дихлофоса. Я была недовольна, не могла усидеть на месте и все время хотела плакать. Отца и брата в тот день с нами не было, мать нервничала и покрикивала.
Наконец раздался звонок, и в комнату не вошел, а вступил удивительный человек — высокий и тонкий, в черных развевающихся одеждах, с тяжелым сверкающим крестом на груди. У него было очень приятное лицо — с ровным овалом и оливковой кожей, темные вьющиеся волосы по плечи и выразительные глаза, цвета которых я, впрочем, не помню, хотя видела отца Александра потом много раз. Я помню только линии глазниц и крупные веки, а также впечатление от его взгляда. Такие глаза я потом замечала на картинах голландских художников — они смотрели с печалью и нежностью, но в этой печали и нежности было что-то потустороннее.
Мать взяла меня за руку. В другую руку дали мне свечку, которая тут же погасла, на что никто не обратил внимания. Отец Александр начал читать молитвы. Голос его — тихий и мелодичный — очаровал меня. Батюшка пел и перемещался по комнате, мазал маслом нарисованные на стенах крестики, брызгал водой, а потом достал непонятную штуку, из которой повалил дым. Смотреть на него было очень приятно. К тому же свечка в моей руке оказалась теплой и вкусной.
— Оля!
Заметив, что я отжевала уже добрую половину свечи, мать начала дико вращать глазами и дергать меня за руку. Когда очередная молитва была закончена, она выхватила у меня огрызок и велела выплюнуть воск. Я расплакалась.
— Что же вы, — отец Александр мягко забрал у нее мою покалеченную свечу и вернул ее мне. — Пусть жует.
— Ничего, что во время молитвы?.. Можно?
— Да уж свечи-то Господь не хватится.
Он погладил меня по волосам и коснулся пальцами лба, оставив теплую масляную полоску. Я тут же в нем все полюбила — и голос, и руки, и прекрасный золотой крест, который на мгновение качнулся у моего лица.
В конце, уже прощаясь, отец Александр пояснил мне, что дом наш теперь благословлен на мир и покой и зло будет обходить его стороной. Я спросила, исчезнут ли теперь тараканы, на что мать опять начала вращать глазами, а отец Александр рассмеялся и сказал, что вряд ли. Он посоветовал матери читать мне перед сном Библию для детей и ушел, оставив после себя замечательный запах ладана. Поскольку отец Александр произвел на меня большое впечатление, Библия вскоре была куплена. «Всем на погибель», — как говорили потом в семье.
В той квартире с нарисованными крестиками мы прожили еще пару лет, пока не переехали в новый зеленый микрорайон, где у каждого уже была своя комната. Я очень интересовалась, придет ли к нам снова отец Александр и нарисуют ли в моей комнате крестик, но мать все отмахивалась — времена были тяжелые, родителям пришлось уйти из научных институтов и заняться торговлей. Интерес же мой был не праздным: одна я спать не привыкла, и в темноте комнаты мне мерещились разные создания. Не помогал и сон при свете. Особенно часто повторялся один кошмар: будто я зимней ночью бегу в лесу к местной церквушке, а за мной что-то гонится, но что именно — я не знаю, потому что боюсь оглянуться. Движения мои замедляются, а снега становится все больше. Наконец я проваливаюсь по пояс и, отчаявшись, жду не боли, а чего-то неизмеримо страшнее.
Он погладил меня по волосам и коснулся пальцами лба, оставив теплую масляную полоску. Я тут же в нем все полюбила — и голос, и руки, и прекрасный золотой крест, который на мгновение качнулся у моего лица.
Взрослые советовали мне меньше смотреть телевизор и оставить в покое какую-то книжку про вампиров, которую я тогда очень любила. Но ни то, ни другое не было возможным, поэтому я искала другие пути спасения. Как-то по радио шла программа про сновидения, и я услышала, что если во сне посмотреть на свои руки, то можно стать хозяином сна и в любой момент его изменить. Эта идея меня захватила, но никто не мог объяснить, как во сне совершить осмысленное действие.
Детская Библия с глянцевыми картинками к тому времени была перечитана сотни раз. Жестокий ветхозаветный Бог и смиренный Христос прекрасно устроились в моей голове в окружении вурдалаков. Я здорово наловчилась подкреплять свои слова библейскими изречениями и часто грозила божьими карами кроткой бабушке Любе, на попечение которой меня оставляли. Бабушка хоть и происходила из дворянской семьи, но о Боге имела представление самое смутное, поэтому запугать и запутать ее мне не составило никакого труда.
— Что ты там опять вылавливаешь?!
— Лук. Фу. Не буду суп.
— И что лук? Пока не съешь, не выйдешь из-за стола!
— А Иисус сказал, если сын хочет хлеба, отец не должен давать камень.
— Где я дала тебе камень?
— Ба, ну ты же мне суп с луком дала. А шоколадку припрятала.
Господа я призывала в самые отчаянные минуты — когда не давали конфеты, не пускали гулять, заставляли убираться в комнате или ругали. Я отчего-то была уверена, что он всегда на моей стороне и, может быть, только затем и существует, чтобы оберегать меня от всех бед. Один раз я даже припугнула девочек во дворе серным дождем, когда меня не взяли в игру. Тем же вечером случилась страшная гроза с градом, после чего я целую неделю находилась в большом почете и собирала конфетную дань в обмен на божье расположение. Однако в другой раз трюк не сработал, из-за чего я долго укоряла Господа: «Ну сложно тебе, что ли, было?» В моем представлении мы были с ним большими друзьями.
Как-то летом — думаю, это было за год до школы — во дворе прошел слух, что в одном из домов поселилась семья священника. Эта новость меня очень взволновала. Любой служитель церкви в моем представлении был сверхчеловеком, носителем тайного знания и чуть ли не осколком божественной сущности, поэтому и дочерей священника, которые вскоре стали появляться на улице, я моментально наделила волшебными свойствами. Это были девочки удивительной красоты — с очень тонкими, нежными чертами лица, оливковой кожей и темными вьющимися волосами. Старшую звали Наташей, а младшую, которая была моей ровесницей, — Глашей.
— У них ямочки на плечах, — сказала мне одна из девочек во дворе. — Это значит, в прошлой жизни они были ангелами.
После этого сообщения я совсем оробела: волшебные девочки очень меня привлекали, но подойти к ним сама я не решалась.
Я очень хорошо помню то летнее утро, когда мы познакомились с Глашей. Родители уже ушли на работу, а бабушка еще не приехала. Жили мы на первом этаже. Я сидела в окне нашей лоджии, свесив ноги, и ждала бабушку, чтобы пойти гулять. Было рано и очень свежо.
— Привет, — раздалось снизу.
Глаша в белом сарафане стояла рядом с мусорными баками и теребила в руках глиняную свистульку.
— Привет.
— Меня зовут Глаша.
— А меня Оля.
— Почему ты там сидишь?
— Я жду бабушку, чтобы пойти гулять. Дома никого нет.
— А она скоро будет?
— Не знаю.
— Если скоро, я могу тебя подождать.
Глаша подошла ближе, и я заметила, что на загорелых плечах у нее и правда были ямочки.
— А тебе… можно гулять с обычными детьми?
— Можно, — она улыбнулась.
— Почему тогда ты ни с кем во дворе не гуляешь?
— Ко мне почему-то никто не подходит.
— Наверное, потому что ты священная.
На лице Глаши отразилось недоумение.
— Ты же дочь священника. Наверное, ты священная, — пояснила я. — Перед тобой все должны расступаться. И тебя нельзя обижать.
Девочка секунду смотрела на меня, а потом начала хохотать и хохотала так долго, что я сама рассмеялась.
— Я не священная! Мы же не божественные!
— Совсем не божественные? Самые обычные? — тут я даже немного расстроилась.
— Совсем. Ну, может, папа чуть-чуть божественный.
— А ты знаешь какие-нибудь божественные секреты? Мне снятся страшные сны.
— Ты читаешь перед сном «Отче наш»?
— Нет.
— А ангела своего зовешь?
— У меня ангел есть?
— Конечно, есть! У всех есть ангел-хранитель. Твои родители ходят в церковь?
— Мама иногда.
Глаша на мгновение задумалась, а потом тихо предложила:
— Если ты завтра зайдешь за мной, я могу познакомить тебя с родителями. Тогда потом можно пойти вместе в церковь.
— И меня там научат, как звать ангела?
— Этому в воскресной школе учат. И молиться тоже. А чтобы страшно не было, можно под подушку что-нибудь положить. Яичко с Богородицей. Или молитвенник. У меня еще есть ангелок. Я могу отдать его тебе. Он будет тебя охранять.
— Давай!
На следующий день в условленное время я, страшно волнуясь, постучала в дверь Глашиной квартиры. Мне открыл отец Александр.
Я не знаю, сколько лет я ходила в церковь. То мне кажется, что флигель воскресной школы строился очень медленно и прошло несколько зим. То вдруг представляется, что вся история заняла не более года. Восстановить хронологию не могут и родители, хотя воспоминаний о тех днях сохранилось много и все помнят, как все началось и закончилось. Эту общую зыбкость памяти я могу объяснить только тем, что для всех тогда время шло по-другому, и не только потому, что кто-то был мал, а кто-то был молод: почему-то воспоминания о том десятилетии, первом десятилетии новой страны, у многих сопровождаются пространственно-временным искажением.
С Глашей мы очень подружились. Перед отцом Александром я трепетала и не решалась задавать ему вопросы, поэтому все выясняла у Глаши, которая, как могла, обучала меня истинной вере. Она объяснила мне, что от Бога ничего нельзя требовать — можно только смиренно просить, уповая на его милость, и что нельзя призывать его кары на голову бабушки и подружек, потому что у Господа своя справедливость и мой ум ее не вместит. Мое панибратское отношение к Богу она осудила, сказав, что с Богом нельзя дружить — можно только любить его и бояться, как любят и боятся отца.
— А я папу своего не боюсь, — сказала я.
Глаша очень удивилась.
— Он тебя не наказывает?
— Нет.
Меня очень смущало, что в семье отца Александра били детей. У меня дома это было не принято — правда, не вследствие какой-то особенной гуманистической позиции родителей, а, скорее, потому, что у них просто не было времени заниматься моей праведностью. Однако отец Александр казался мне очень добрым, и я никак не могла представить, чтобы он кого-нибудь бил и доводил до слез. Позже из рассказов Глаши я поняла, что бичом господним у них в семье, как правило, выступала матушка Ирина — красивая полная женщина с белым круглым лицом. Она руководила церковным хором и пела так хорошо и чисто, словно на клиросе на нее сходила благодать. Правда, после служб благодать куда-то девалась — в миру матушка Ирина была женщиной неулыбчивой и, по моим воспоминаниям, не очень-то ласковой. Она замечательно умела солить огурцы, что, как я потом узнала, является отличительной чертой всех матушек.
Квартира «святой семьи» производила двойственное впечатление. С одной стороны, в ней было много красивых вещей — вазы, гардины, иконы в богатых окладах, старинные книги, подсвечники, резная тяжелая мебель темного дерева. С другой — было пыльно и грязно: когда в коридоре снимались сандалии, к ногам тут же прилипал всякий сор. При этом Наташу и Глашу, по их рассказам, все время заставляли убираться.
— Я не пойду гулять, — вздыхала Глаша в телефонную трубку. — Мне надо вымыть пол.
Иногда нельзя было дозваться ее целый день — то пол, то окна, то пыль протереть. К тому же девочки ходили в музыкальную школу и много занимались игрой на пианино. Дома у них бывать я любила — там всегда было много конфет и необычных игрушек. Так, у Глаши была дорогая фарфоровая кукла, а отцу Александру как-то раз кто-то из прихожан подарил корзину с сахарными розами. Эти розы стояли в гостиной, и матушка после ужина разрешала нам съесть бутон.
Меня очень смущало, что в семье отца Александра били детей. У меня дома это было не принято.
Гораздо меньше мне нравилось в церкви. Стоять службы было очень тяжело, поэтому я старалась приткнуться к лавочке с корзиной для подаяний, чтобы иногда на ней отдыхать. В том месте была икона Божьей Матери, на руках которой сидел младенец со свитком, — кажется, она называлась «Утоли моя печали». Эта икона собирала вокруг себя самых рьяных прихожанок — старух. Они яростно крестились, а иногда впадали в такое исступление, что падали на пол и бились в поклонах лбом.
— А нам нужно биться лбом? — спросила я как-то Глашу.
— Никогда так не делай.
Место рядом с корзиной для подаяний я выбирала еще и потому, что мне хорошо было видно, какие сладости кладут в нее прихожане, — часто корзина после службы отвозилась домой к отцу Александру, и нас чем-то из нее угощали.
Сам храм я помню плохо. В какой-то момент внутри начался ремонт, все закрыли лесами, и стоять приходилось среди железных конструкций и какой-то зеленой ветоши. Примерно в это же время, по моим воспоминаниям, у отца Александра появился джип серебряного цвета. Это была самая красивая машина во дворе, которой восхищались все дети. Я ужасно гордилась тем, что у священника нашей церкви есть такая машина и что я могу иногда в ней проехаться. Мне казалось, что у отца Александра все должно быть самым красивым и лучшим.
Вскоре неподалеку от церкви построили белый флигель, где стали проводить занятия воскресной школы. Что нам на них рассказывали, я не помню. Помню только, как учили нас петь молитвы и кормили по праздникам бутербродами с красной икрой. И еще помню, как хорошо было во флигеле поздними летними вечерами или темной зимой, когда мы с другими детьми после чая рассказывали друг другу страшные истории, вызывали гномов или играли в казаки-разбойники в окрестном лесу.
Моя вера в божественную силу по-прежнему прекрасно уживалась с очарованием нечистью.
— Мам, а что значит «сущим во гробех живот даровав»?
— Дал жизнь мертвым.
— И все воскресли? Как зомби потом ходили?
— Нет, конечно!
— А как?
— Спроси отца Александра! В воскресной школе спроси.
— Хорошо.
— Но только про зомби там ничего не говори!
— Ладно. А вампиры — тоже сущие во гробех?
— Оля!
Глаша сдержала свое обещание и подарила мне стеклянного белого ангелочка, чем-то очень похожего на нее саму. Позже я обзавелась и яичком с Богородицей. Все эти обереги лежали у меня под подушкой, и одной рукой я, засыпая, держалась за веревочку молитвенника — Глаша утверждала, что если держаться за веревочку и не открывать глаза, то ангел-хранитель распускает над кроватью хрустальные крылья. Но, кажется, чем сильнее становилась моя вера в силу Господа, тем ужаснее становилось зло в моих снах.
Меня сильно волновала проблема грешности человеческого бытия. В церкви много говорилось о том, что все грешны, но до встречи с Глашей я не видела за собой грехов и теперь беспокоилась, что просто не умею определить их. Как-то раз я даже попросила у отца Александра выдать мне список грехов, но он с улыбкой сказал, что такого не существует и мне еще предстоит научиться их чувствовать.
— А с бабушкой ссориться — грех? — спрашивала я у Глаши.
— Грех. Старших нужно почитать.
— А если я суп есть не хочу — грех?
— Это непослушание, а непослушание — грех.
— А лук из супа вылавливать — грех?
— Если старшие не велят — грех.
— Я грешница.
До исповеди меня допустили не сразу. Поэтому первое время я искупала свою грешность молитвами. В молитвеннике, купленном в свечной лавке, нашлись тексты на все случаи жизни, что поначалу очень меня обрадовало. Но когда я выписала все молитвы, какие могли пригодиться мне в течение дня, то с удивлением обнаружила, что молиться придется с утра и до ночи. Я молилась после еды и перед едой, после сна и перед сном и корила себя за то, что не всегда успеваю молиться в начале всякого дела и в его конце.
— Если столько молиться, ни на что не останется времени, — заметил как-то отец, заглянув через плечо в мои выкладки.
— Тогда и на грехи времени не останется, — ответила я.
— Так только кажется.
Свою первую исповедь я почти не помню — было страшно. Грехи я заранее выписала на бумажку, и это единственное, что осталось в памяти, потому что мой грешный набор не менялся еще очень долго: «Не слушалась маму», «Не слушалась папу», «Не слушалась бабушку», «Поругалась с девочкой во дворе», «Плохо думала про девочку во дворе», «Взяла конфеты без разрешения», «Ленилась прибраться в комнате». Отец Александр никогда мои откровения не комментировал, но я как-то вдруг забеспокоилась, что в рутине моей греховности он может заподозрить нежелание становиться лучше и ближе к Богу. Я стала ежедневно отслеживать грехи в своем поведении и волевым усилием уничтожала их один за другим. Но ужас охватил меня, когда в преддверии очередной исповеди я не смогла вдруг вспомнить за собой ни единого прегрешения. «И с бабушкой не ругалась, и даже суп с луком ела» — я сидела над пустою бумажкой и не знала, как быть. Пришлось перед исповедью украсть у Глаши жвачку — иначе сознаться было решительно не в чем. В другой раз я вышла из положения еще хитрее. «Я, наверное, согрешила и не заметила. Не ругалась, но ведь, наверное, хотела поругаться», — подумала я и уверенно написала свой коронный набор. Вопрос, грешить или не грешить, а если не грешить, то что говорить на исповеди, волновал меня ежедневно, поэтому в момент, когда отец Александр накрывал мою голову золотой епитрахилью и читал разрешительную молитву, я испытывала огромное облегчение.
Голый человек с бутафорскими клыками и в коротком плаще с красной подкладкой елозил на голой женщине, лежавшей в гробу.
Больше всего на исповеди поражали старухи. Эти прихожанки исповедовались каждую неделю, и каждая занимала большое количество времени.
— Откуда у них столько грехов?
— Может, они всю неделю специально грешат, — отвечала Глаша. — Или просто накопили. Они же старые.
Меня смущало, что у набожных старух, которые столько молятся, знают все служения наизусть и так истово бьются в пол, грехов больше, чем у меня. Поэтому я иногда накидывала себе пару пунктов и в счет будущих прегрешений: «Сейчас ни с кем не ссорилась, но ведь поссорюсь когда-нибудь».
Самым любимым моментом воскресного дня в церкви у детей было причащение. Перед исповедью нельзя было есть, и все были ужасно голодными, а после евхаристии давали хлебный кругляш — просфору. Эти просфоры в большом количестве хранились за свечным ящиком при входе в церковь, и, бывало, мы с Глашей незаметно таскали их по одной — почему-то не считая это грехом.
Кончилось все внезапно.
В тот день мы играли у Глаши в куклы. Отца Александра и матушки Ирины дома не было. Мы расположились в детской, а Наташа со своими друзьями заняла гостиную. Проголодавшись, мы выбрались на кухню и заметили по дороге за бутербродами, что дверь гостиной плотно прикрыта и за ней раздаются странные звуки.
Переглянувшись, мы постучались и, не дождавшись ответа, открыли.
Наташа и несколько ее друзей, среди которых были и мальчики, и девочки, сидели на диване и, словно загипнотизированные, смотрели в телевизор, где голый человек с бутафорскими клыками и в коротком плаще с красной подкладкой елозил на голой женщине, лежавшей в гробу. К тому моменту я уже знала, что люди чем-то таким занимаются, но видела это только на картинках из журналов, которые раздавали во дворе.
— Что это? — воскликнула Глаша.
— Тихо вы, — прикрикнула на нас Наташа. — Смотрите или уходите.
Мы устроились на диване.
Женщина в гробу меж тем ожила и не выказала ни малейшего недовольства или хотя бы страха — напротив, она, казалось, обрадовалась голому толстому вурдалаку.
— Ей хорошо? — спросила я.
— Кажется, да.
— Фу.
Вскоре сюжет изменился. Нам показали монашку, которая истово молилась в своей келье. Но молилась она недолго — дверь распахнулась, и похотливый вурдалак сорвал с нее монашеское одеяние, под которым, впрочем, почему-то ничего не было.
— А они все время будут делать одно и то же?
— Наверное.
— А почему монашка не прогнала вампира крестом? У нее же висит распятие над кроватью. Нужно его схватить и вонзить вампиру в грудь.
— Может быть, она не хочет.
— Тогда она не праведница.
— Зачем мы это смотрим?
— Да тише вы! Это же порнография.
Сюжет развивался. Вскоре мы узнали, что в злополучном монастыре действовало сразу несколько вампиров, а настоятельница была одержима одной из послушниц и вытворяла с ней черт знает что.
Когда фильм закончился, никто не знал, что сказать, и я, как мне тогда показалось, озвучила общую мысль:
— А Бог нас теперь накажет?
Все, кроме Глаши, ужасно развеселились моему вопросу.
— Ты думаешь, у Бога дел других нет? — засмеялась Наташа.
Вообще-то я действительно думала, что после сотворения мира у Бога было только одно занятие — учет наших грехов, но тут уже решила промолчать.
— Главное, держите в секрете, — сказала Наташа. — Это тайна, поняли?
— А исповедь как же?
— Какая исповедь! Только попробуй отцу сказать! Ты хоть понимаешь, что будет? Мы эту кассету нашли у него под кроватью.
У меня по шее побежали мурашки. Поверить в услышанное было невозможно: отец Александр смотрит на голых монашек!
Мы с Глашей вернулись в детскую, но в куклы играть уже не хотелось.
— Что же нам делать? — спросила я почти шепотом.
— Молчать.
Казалось, Глаша тоже пребывает в каком-то оцепенении.
— Но это же значит утаить грех на исповеди!
— Ты и так там все время врешь.
— Но это другое…это же НАСТОЯЩИЙ грех!
Мы немного посидели в тишине.
— Я не хочу, чтобы моя душа погибла, — сказала я твердо. — Я признаюсь на исповеди.
Глаша вдруг подняла на меня такой же потусторонний, печальный взгляд, как у отца Александра.
— И ты предашь меня? Это ведь нас с Наташей будут пороть. Не тебя.
Я сглотнула.
— Но ведь есть тайна исповеди!
Глаша снова послала мне этот взгляд.
— Как же быть?
— Может… давай будем как те старушки? Грехов накопим.
Домой я ушла, пообещав Глаше, что сохраню наш грех в тайне. Той ночью я почти не спала. Мне все представлялся отец Александр с епитрахилью в руках. И как я говорю ему, что мы с Глашей, Наташей и другими детьми смотрели кассету, взятую в его комнате. Я представляла, как меняется его лицо, как отражается на нем удивление, а потом гнев. Или нет. Может, наоборот. Может быть, лицо это остается неподвижным. И он просто кивает, как кивает всякий раз, когда я говорю, что не слушала бабушку. Но даже если он ничего не скажет и не сделает… ведь он будет знать, что я знаю, что у него есть такая кассета и что он тоже ее смотрел. И как же я буду ему исповедоваться, если знаю теперь, что отец Александр не без греха?
Возвращалась я потом через лес, освещая себе путь тоненькой красной свечкой, зажженной в храме. Она не гасла до самого моего дома.
На следующий день было воскресенье. В церковь я не пошла. Весь день меня преследовало чувство, что ночью случится что-то ужасное. Я должна была лечь спать без исповеди и причастия, с ужасным грехом на сердце. Невозможно было представить, чтобы ангел небесный спустился ко мне после всего случившегося и простер хрустальные крылья. Я вдруг зачем-то подумала, что ночью непременно умру, и уже не могла отделаться от этой мысли до самого вечера.
Перед сном, спрятав под одеялом все имеющиеся в доме иконы, я позвала мать.
— Мам, я нагрешила.
— Ну пропустила один раз церковь, ничего страшного.
— Нет. Ты не знаешь. У меня есть грех. Но я не могу тебе о нем рассказать. Я очень раскаиваюсь, и мне стыдно.
— И отцу Александру сказать нельзя?
— Нельзя.
— С Глашей чего-то натворили?
— И с Глашей, и с Наташей.
Мать пожала плечами.
— Если отцу Александру сказать нельзя, скажи Богу.
— А он меня услышит?
— Как же он тебя не услышит, если он везде, и с нами, и в нас?
Я очень удивилась такому простому решению моей проблемы.
— А зачем тогда отец Александр? И церковь?
— Затем… затем, что к Богу много путей ведет.
— А Господь меня не накажет, если я в церковь не пойду? А свечки иконам ставить? Как же свечки?
Мать улыбнулась.
— Да уж свечки Господь не хватится.
Когда она ушла, выключив свет, я обложилась со всех сторон иконами, молитвенно сложила руки и хотела уже признаться всемогущему Господу в своем грехопадении, но вдруг поняла, или как-то почувствовала, или просто решила так от усталости, что Господь давно уже в курсе и, наверное, даже знает о моем раскаянии. Я подумала вдруг о Глаше.
— Господи, не наказывай, пожалуйста, Глашу, и отца Александра, и всю его семью. И мою семью тоже не наказывай. И всех людей. Не наказывай, пожалуйста, никого. Можешь только меня чуть-чуть наказать.
Я расплакалась и уснула.
Той ночью мне приснилось, что я снова бегу через лес к нашей церквушке и за мной что-то гонится. Я споткнулась в снегу и, упав, вдруг увидела свои ладони. В тот же миг мне стало понятно, что я сплю, что за мною больше никто не гонится, а если даже и гонится, то можно же, например, улететь.
С того дня я почти всегда во сне знаю, что сплю.
И это, я вам скажу, довольно скучно.
В церковь я с тех пор не ходила, хотя с Глашей какое-то время продолжала дружить, но уже не так тесно. Наша дружба постепенно истончалась, пока совсем не сошла на нет. А вот отца Александра я почему-то долгое время не встречала — ни во дворе, ни заходя за Глашей домой.
Наташа, говорят, вышла замуж и родила ребенка. Про Глашу мне ничего не известно, кроме того, что она жива-здорова и выросла в очень красивую молодую женщину, судя по фотографиям в социальных сетях.
О самом отце Александре до меня доходили разные слухи, один из которых очень меня поразил — якобы он ушел от матушки Ирины к молодой девушке и сожительствовал с ней, не таясь. Говорят, за это его хотели лишить прихода, но почему-то не лишили, и он до сих пор служит в своей церкви, а оставленная им матушка Ирина все так же хорошо поет в хоре. Так это или нет — я не знаю.
Единственная наша встреча состоялась, уже когда я училась в одиннадцатом классе в физико-технической школе. На одном из уроков обществознания я выступила в защиту однополых отношений, чем вызвала недовольство учительницы. На следующий урок она привела в класс священника. Это был отец Александр. Неизвестно, узнал ли он меня, потому что виду он не подал. Я смотрела на него не без злости и все ждала, когда он начнет рассказывать, что гомосексуалисты — неугодные Богу люди, создания ошибочные и порочные, больные и убогие. Я ждала услышать от него резкое осуждение, чтобы самой встать и осудить его, рассказать все, что знаю и о нем, и о его семье. Но он ничего такого не говорил. Своим тихим, печальным голосом он долго рассказывал о значении брака в церковной традиции, а гомосексуального вопроса коснулся лишь вскользь, да и то лишь в том смысле, что все мы под Богом ходим и на свете нет неугодных ему созданий, но есть люди, так отличные от других, что достойны великой жалости и сочувствия. В завершение своей лекции он сказал, что любой человек заслуживает любви и заботы ближнего, но брак — это союз мужчины и женщины, по-другому уже быть не может и все прочие союзы, хоть и имеют право на существование, называться должны иначе.
Не со всем я была согласна, но рассказ отца Александра и его позиция показались мне до того безобидными, что я спорить не стала. Лишь пожала плечами, когда учительница спросила, все ли я поняла.
Больше мы с тех пор и не виделись.
Рассказ мой вызвал некоторое обсуждение. Много говорилось о том, что изложенная мной история лишь подтверждает, что ходить в нашу церковь нечего. Никаких своих мыслей я по этому поводу не высказала. Тем более что историю эту я рассказала не до конца. Отца Александра я видела пару лет назад во время пасхальной службы, куда зашла из любопытства. Церковь наша не сильно изменилась за прошедшие годы — только обросла какими-то магазинчиками и мастерскими вроде «Шиномонтажа», а внутри сделали ремонт и обновили росписи. Прихожане суетились в предбаннике, раскладывая на столах куличи и яйца. Отец Александр в облачении стоял на лестнице, которая вела, кажется, на колокольню. Он немного располнел, а в темных волосах появилась проседь. Я осталась на крестный ход и со всеми пела у церкви. Отец Александр пел лучше всех, и некоторые прихожане даже расплакались. Возвращалась я потом через лес, освещая себе путь тоненькой красной свечкой, зажженной в храме. Она не гасла до самого моего дома.
27 октября 2016 года, Москва
Автор — заместитель главного редактора интернет-издания Rus2Web
«Последний дом»
«Возвращение Сатурна»
«День рождения»
«Хозяин»
«Латышка»
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Общество
Общество
Андрей Мирошниченко объясняет, что агрессия в соцсетях — это просто чужой бизнес. И призывает к осознанию этого факта и регуманизации
27 ноября 2020385 Colta Specials
Colta Specials Театр
Театр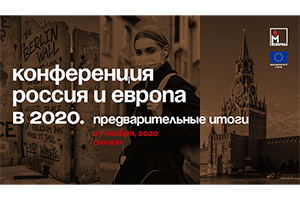 Мосты
МостыСегодня на Кольте — трансляция конференции о политических и общественных итогах сложного 2020-го с участием ведущих политологов и социологов
27 ноября 20201202 Искусство
ИскусствоГлава из книги Павла Алешина «Династия д'Эсте. Политика великолепия. Ренессанс в Ферраре»
26 ноября 2020222 Современная музыка
Современная музыкаЛевша-пацан о том, как он поехал на Ямайку, подружился с даб-гуру Ли «Скрэтчем» Перри и спродюсировал его совместные альбомы с Борисом Гребенщиковым
26 ноября 2020254 Театр
Театр Академическая музыка
Академическая музыка Современная музыка
Современная музыка«Песни — это главное»: премьера дебютного сингла группы Яны Смирновой, экс-вокалистки «Краснознаменной дивизии имени моей бабушки»
25 ноября 2020406 Современная музыка
Современная музыкаМинская группа с международной карьерой — о новом альбоме «Monument», поколении думеров, мировом успехе и ситуации в Беларуси
24 ноября 2020267 Кино
Кино«Я — Грета». Инна Денисова — о том, как парадный портрет Греты Тунберг оказался «Криком» Мунка
24 ноября 2020141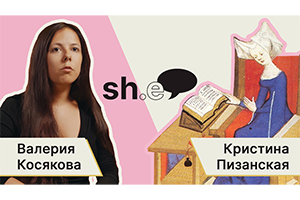 She is an expert
She is an expert