 Современная музыка
Современная музыкаZventa Sventana. «На горе мак»
Певица Тина Кузнецова и продюсер Юрий Усачев продолжают эксперименты с русским фольклором: премьера нового альбома
2 апреля 2021478 © Дмитрий Серебряков / ТАСС
© Дмитрий Серебряков / ТАСС Театр наций готовит первую в новом сезоне премьеру на Большой сцене — выдающийся польский режиссер Гжегож Яжина дебютирует в России постановкой «Ивонна, принцесса Бургундская» Витольда Гомбровича. С худруком театра TR Warszawa и одним из ведущих театральных режиссеров современной Европы специально для COLTA.RU поговорила Кристина Матвиенко.
— Вы уже обращались к «Ивонне» — почти двадцать лет назад, в краковском Старом театре. С тех пор вы ставили Сару Кейн, Шекспира, Пазолини, Дороту Масловску, Расина и Кассаветиса — едва ли не каждый из этих спектаклей неизменно становился важным событием польской и европейской сцены. О чем вам хочется говорить в театре сегодня?
— В Польше я бы не стал возвращаться к Гомбровичу — сегодня есть более интересные тексты, которые я еще не ставил. Я вообще очень взволнован тем, что у нас происходит сегодня: страна охвачена напряжением, людьми овладело стремление делить всех на правых и неправых. Не то чтобы подобная проблема существовала только в Польше — это, конечно, следствие общеевропейского кризиса, — но идея солидарности, которая тридцать лет назад взяла верх и привела страну к независимости, постепенно сходит на нет. Мы еще со времен окончания Второй мировой боимся чужих, боимся, что эмигранты разрушат нашу культуру и тогда мы потеряем свою идентичность и свое лидерское положение. Страх перед другим, перед тем, что отличается от определенной нормы, камуфлируется национальными и патриотическими лозунгами. В результате вместо того, чтобы открываться миру, мы закрываемся. Вдобавок ко всему в какой-то момент разрушились общественные связи — не под давлением идеологического груза, а в обстоятельствах экономической свободы. Всем было что-то обещано, все шли получать и потреблять и, став богатыми, моментально обрывали связи — с соседями, коллегами, в деревне, в городе и среди интеллектуалов. Именно этих связей, очень характерных для прежней Польши, нам сейчас особенно не хватает — их мы променяли на европейский индивидуализм. Это, конечно, ужасно — вместо того чтобы развиваться, мы движемся вспять. Польша вообще может служить хорошим примером того, как при экономическом, как нам кажется, развитии растет рынок потребления, а человеческие отношения стоят на месте или даже идут назад. Странное дело: когда наконец удовлетворены наши базовые потребности и мы взыскуем духовности, то обнаруживаем ее в бездумном хождении в костел и слушании проповедей, которые на самом деле все без исключения — про политику. Так что главная для меня сейчас тема — восстановление племенных, родовых отношений и возрождение доверия между людьми.
— Русский театр за последнее десятилетие тоже все больше и больше откликается на перемены в социокультурной повестке. Вы довольно много времени провели в Москве, часто ходили в театры — каков, на ваш взгляд, градус нашей сегодняшней театральной жизни?
— Тут людям театра точно приходится иметь дело со строгими ограничениями, нет такой степени свободы, какую мы можем позволить себе в Польше. Театр может влиять на то, что происходит вокруг, — но до известных пределов. Есть темы, которые, как я успел понять, лучше не трогать, — политика, вопросы морали и нравственности.
Мне нужен артист на стыке интуиции и эмоции.
— Вы смотрели «Машину Мюллер» Кирилла Серебренникова — какие в этом спектакле ограничения?
— Это смелый спектакль, как и «(М)ученик». В «Гоголь-центре» мне казалось, что в России художник может говорить обо всем, — но потом я понял, что это заблуждение. Возможно, Кирилл заплатил за это право большую цену. Возможно, у вас как в Китае: принимаются в расчет отношения между людьми, в том числе чисто человеческие отношения с властью. Если у тебя хорошие отношения или есть «крыша», ты можешь себе позволить нарушать барьеры. В Польше этого нет. Даже сейчас, когда правые пришли к власти и правила ужесточились, это не связано с кумовством. У нас просто говорят: с такого-то дня такой-то директор больше не работает.
— TR Warszawa финансируется государством?
— Это городской театр, объем бюджета зависит от того, кто занимает кресло мэра Варшавы — сейчас это либерал, поэтому все нормально. Но два года назад мэр нас недолюбливал, говорил, что мы — слишком художественный театр, а нужно больше зарабатывать и меньше тратить. Сейчас мы находимся в оппозиции к правым — театр в Польше всегда будет критиковать власть, и дело не только в конкретной повестке дня: нас в принципе интересует, как власть действует на развитие общества, и не так уж важно, идет речь о красных или о белых.
— В Польше исторически были очень сильны два гражданских института — церковь и театр. Влияет ли театр на общество сегодня так же сильно, как раньше?
— В Польше театр действительно имеет большое влияние на формирование общественного дискурса — дискуссии в прессе могут идти на протяжении нескольких месяцев после премьеры. Сцена быстро реагирует на перемены в социуме и всегда дает отклик — это независимый голос, хороший оппонент политика. Церковь и театр не боролись друг с другом до падения коммунизма. Сейчас все немного иначе.
 Гжегож Яжина на репетиции «Ивонны, принцессы Бургундской» в краковском Старом театре, 1997© Katarzyna Zajda
Гжегож Яжина на репетиции «Ивонны, принцессы Бургундской» в краковском Старом театре, 1997© Katarzyna Zajda— Вы сказали о том, что не стали бы снова ставить «Ивонну» в Польше. Как эта пьеса Гомбровича звучит в России?
— У вас вопрос системы, подавляющей индивидуальность, — это горячая тема. Приезжая в Москву, ты думаешь, что можешь позволить себе многое, если не все: ночные клубы и тому подобное. Но одновременно ты хорошо понимаешь, что границы этой свободы четко определены и если перешагнуть их, то ты окажешься уже вне закона.
— Чем ваша московская «Ивонна» будет отличаться от краковской?
— Девятнадцать лет назад я был молод, поэтому тот спектакль был более романтичным, про трагическую любовь… Сегодня меня интересует скорее диспозиция между присутствием чужого и властью; мне вообще кажется, что страх — это ключевой человеческий механизм. Мы любим того, кто похож на нас. А человек с иным цветом кожи не способен вызвать даже восторг — мы его боимся. В нас говорит первобытная натура, испытывающая страх перед зверями. Вместо того чтобы сказать: так, спокойно, мы уже в безопасности, мы не нападем на соседей, а они не нападают на нас — мы сами разжигаем этот террор страха.
— Можно ли сегодня говорить на такие темы в государственном театре с его буржуазной публикой? Возможен ли вообще сегодня диалог в театре?
— Я, в отличие от Гротовского, считаю, что театр не существует без диалога — это его основа. Если в театр приходит буржуазная публика, способная каким-то образом влиять на политику, тема системы и власти — для нее, для тех, кто может что-то изменить. Что они будут думать во время и после спектакля, для меня очень важно. Пьеса Гомбровича — в том числе и о придворной жизни, так что тут мы выстраиваем что-то вроде зеркала.
— «Ивонна» — ваша первая работа в России. Какие впечатления?
— Система всегда создает препятствия для работы — бюрократию, например. Но если говорить о плюсах — чувствуется, что и для актеров, и для всех, с кем я общаюсь, театр — это дело всей жизни. Поэтому разговор идет на принципиально другом уровне.
— Началу репетиций предшествовал долгий кастинг. Каких актеров вы искали?
— Для меня очень важно, с кем я работаю: поймут ли меня актеры, произойдет ли в процессе репетиций биохимическая реакция. Мне нужен артист на стыке интуиции и эмоции. Грубо говоря, театр — это трансовая игра, и я ищу трансового актера.
 «Ивонна, принцесса Бургундская» в краковском Старом театре, 1997© Tomasz Żurek
«Ивонна, принцесса Бургундская» в краковском Старом театре, 1997© Tomasz Żurek— Как вы с ними работаете?
— Мы занимаемся и теорией, и упражнениями, мы много импровизируем и пока еще ничего не закрепляем. Для меня основной вопрос — что они играют, кто они, что за ситуацию мы выстраиваем на сцене. Мне бы хотелось, чтобы у них не голова управляла телом, а, так сказать, чтобы они нутром все почуяли. Это идеал.
— Что недоступно очень хорошо выученному и, как правило, самоотверженному русскому актеру?
— Возможно, откровенность — когда мы в театре и можем позволить себе все то, что не позволено в обычной жизни. Достать из себя все, не боясь. Тут я натыкаюсь на стыд или на глубоко сидящую преграду — ее нам еще предстоит преодолеть.
— Ремарка самого Гомбровича указывает на то, что «наиболее странные сцены должны быть сыграны реалистично».
— Авторские пояснения касательно того, как он видит свое произведение на сцене, никогда не работают. Я не читаю этих ремарок, мне скорее интересно, что было у Гомбровича в голове в момент сочинения «Ивонны» — и что он хотел ею сказать.
— А что у него было в голове?
— Это очень интересно: «Ивонна» ведь его первое произведение для театра. У нее фактически два источника: с одной стороны — Шекспир, откуда вся структура персонажей, взаимоотношения и сильная классическая структура, почти голливудская. С другой стороны — множество сугубо личных сюжетов: если почитать работы и дневники Гомбровича, становится очевидно, что королева — его мать, король — отец, а Ивонна — его невесты, о которых он говорил, что они есть, но с которыми у него не было эротического контакта, только в голове. Потом оказалось, что это гомосексуальная или бисексуальная природа, он боялся женщин.
 «Ивонна, принцесса Бургундская» в краковском Старом театре, 1997© Tomasz Żurek
«Ивонна, принцесса Бургундская» в краковском Старом театре, 1997© Tomasz Żurek— Русский текст «Ивонны» переписан или сокращен? Когда читаешь сегодня пьесу, возникает ощущение, что она написана на каком-то искусственном языке.
— Мы со Щепаном Орловским сделали адаптацию, в которой несколько переставили акценты. Перевод «Ивонны» отнюдь не плох, проблема в том, что Гомбровича в принципе сложно переводить. Его речь всегда вырастает в другую, обладающую своей уникальной, ассоциативной логикой. Этот механизм очень важен у Гомбровича — говоря о чем-то, каждый из его героев на самом деле думает о своем.
— В ваших спектаклях всегда важна визуальная сторона — как вы в этом смысле решаете «Ивонну»?
— У Петра Лакомы минималистичная, функциональная сценография. А вот костюмы Анны Ныковской будут реализовывать концепцию редукции внешних масок, скрывающих наше подлинное естество. Рубашка или платье понимается как маска, которой мы прикрываем стыд нашей телесности. В обычной жизни мы обнажаем лицо, руки — и только. В том, как в нашем спектакле станут трансформироваться костюмы, будет отражен процесс развития персонажей. В музыке Андрея Борисова — минимализм, сначала почти что без звука, а в конце — практически барочное произведение.
— Можно ли сказать, что больше всего вас интересует скрытое в человеке — и это стремление к откровенности привито вашим учителем Кристианом Люпой?
— Конечно, это основная тема. Но до того, как я познакомился с Кристианом, я много ездил по миру, был в разных племенах. Интересно, что в Монголии, в Папуа — Новой Гвинее, среди аборигенов ты можешь найти контакт с людьми везде, даже в самой странной системе. Если ты ее не атакуешь, а видишь отдельного человека, то всегда удастся выстроить взаимоотношения, в том числе и довольно сильные. Значит, человеку действительно нужна эта внутренняя коммуникация. А все остальное — то, как мы выглядим, как живем, — это система и условия, в которые мы попали и должны принять, чтобы выжить. В Папуа — Новой Гвинее аборигены вырубают участок джунглей и внутри этого круга строят деревню с палкой в середине — это их ось мира. Дальше они не ходят, дальше — змеи и опасность. Если будешь уважать этот принцип, тебя не тронут и даже примут как своего. Нужно подождать, не нарушая границ, пока к тебе приглядятся — ведь ты белый, тебя боятся. Потом дать сигнал уважения — сигареты, например, послать, лучше сразу вождю. Тебе дадут воду, но к себе не подпустят. И так, через обмен, который и есть основа коммуникации, и через жесты, тебя впускают: можешь остаться там, в деревне, теперь ты — один из них.
 «Ивонна, принцесса Бургундская» в краковском Старом театре, 1997© Tomasz Żurek
«Ивонна, принцесса Бургундская» в краковском Старом театре, 1997© Tomasz Żurek— Но ведь идея мультикультурности переживает сегодня кризис, разве нет?
— Мультикультура — ошибочная формулировка, есть только одна культура — культура человека. В истории цивилизации именно европейцы натворили больше всего зла. Мы очень гордимся собой, но только мы навязывали свои порядки и стремились доминировать над другими народами. Это есть и в других нациях, но только у европейцев это выражено столь ужасающе.
— Каким вам видится будущее? Как вы ощущаете настоящее?
— Я уже год живу с новой польской властью. Я помню коммунизм, когда мы знали, как функционировать и как договариваться — пускай и в обстоятельствах закрытого шлагбаума. А сейчас есть новая идеология, и дискуссии по ее поводу нет: продумана система увольнений, пропаганды, воспитания нового общества в правопатриотическом и католическом ключе. Чтобы перемены касались всего, начиная с начальной школы и заканчивая назначением главы газовой отрасли, — такого раньше не было.
— Разве за эти годы в Польше не выросла публика, которая привыкла к совсем другому порядку вещей и которую трудно перевоспитать?
— В Министерстве культуры считают, что в спектаклях нашего театра есть порноконтент и дискуссии о религии — что автоматически отрезает нас от дотаций Минкульта. Мы — стыд Польши. Надеюсь, что это изменится. Может, это просто тема, которую нужно проработать? Демократия слишком недолго существовала в нашей стране, чтобы окончательно обосноваться в сознании поляков.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Современная музыка
Современная музыкаПевица Тина Кузнецова и продюсер Юрий Усачев продолжают эксперименты с русским фольклором: премьера нового альбома
2 апреля 2021478 Искусство
Искусство Современная музыка
Современная музыкаМифы крымских татар, фолковые напевы, семейные традиции и энергия рейва в песнях семейного дуэта
1 апреля 2021258 Искусство
ИскусствоВалерия Косякова рассуждает о том, «что делает художников-миллениалов такими уникальными, такими (не)похожими друг на друга»
1 апреля 2021225 Современная музыка
Современная музыкаКомпозитор и скрипач — о долгожданном альбоме своего ансамбля «4′33″» «Alcohol», личном «Отеле “Калифорния”» и нестареющем Оззи Осборне
31 марта 2021160 Современная музыка
Современная музыкаПетербургский пианист и композитор — о том, как он начал сотрудничать со звездами прог-рока и как записал дневниковый альбом фортепианного эмбиента
31 марта 2021205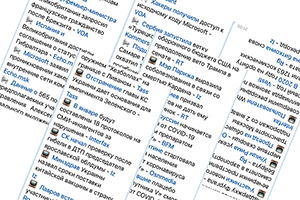 Общество
Общество
Андрей Мирошниченко о том, как дробилась медийная информация, и о том, как это в конечном итоге меняет саму структуру общества
31 марта 2021306 Кино
Кино Современная музыка
Современная музыка Искусство
ИскусствоКуратор ЦСИ «Сияние» о собрании Андрея Малахова, новой выставке и планах на будущее
30 марта 2021247 Современная музыка
Современная музыкаДима Пантюшин и Саша Липский рассказывают о своем «визуально-музыкальном» альбоме, на котором они переупаковали впечатления детства
29 марта 2021259 Кино
Кино