 Общество
ОбществоАнтифа: что это было? И будет ли вновь?
Текст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги
1 февраля 202212971 © Михаил Джапаридзе / ТАСС
© Михаил Джапаридзе / ТАССВ середине мая в Модене и Болонье покажут новый спектакль Константина Богомолова. Незадолго до премьеры «Преступления и наказания» режиссер рассказал COLTA.RU, почему надо убивать драконов, зачем ставить Вуди Аллена и чего не в силах понять критики.
— Слышала, ты собирался прервать репетиции в Италии, чтобы вернуться в МХТ и сыграть в «Северном ветре» — режиссерском дебюте Ренаты Литвиновой. Тебе еще не надоело быть артистом?
— Мне не надоело — я по-прежнему открыт к любым кипежам. «Играть роли» мне неинтересно, но если я нахожу в материале какой-то свой эмоционально-драйвовый навар, то мне абсолютно неважно, артист я в этом мероприятии, танцор или кто-то еще. К Ренате я отношусь нежно, «Северный ветер» — прекрасный текст, я с удовольствием в нем бы поучаствовал, но в этот раз мы не совпали по срокам.
— Чем ты занимаешься со студентами в своей мхатовской лаборатории?
— Разговариваем, разбираем материал, снова разговариваем, сейчас они начинают показывать свои отрывки. Вообще прекрасные ребята, умные, тонкие, сложные, — все разговоры о деградации молодого поколения бессмысленны, когда ты их видишь. Другое дело, что у этих ребят нет пространства, где они могут обмениваться энергией — даже просто на уровне бесед. Лаборатория в определенной степени — тот дом, в который они приходят, чтобы побыть в некоем, условно говоря, интеллектуальном уюте. И я рад, что до какой-то степени могу скрасить им одиночество. В живом режиме стараюсь передать им то, что у меня накопилось за эти годы в теоретическом плане… И очень этому радуюсь, потому что для меня это возможность собрать все свои идеи и наработки вместе и потом придать им печатную форму.
— То есть можно говорить о некой сложившейся у тебя системе?
— Ну да. Это не просто театральная система — это определенная философия, взгляд на человека и культуру, который непосредственным образом перетекает в театральную технику и технологию. Потому что все эти вещи очень связаны между собой.
— Что будет потом с твоими лаборантами — они станут режиссерами?
— Кто-то да, кто-то нет. Существенная часть людей там уже профессионально состоялась: скажем, Настя Патлай из «Театра.doc» или Вася Березин — для них это какое-то обогащение опыта. Есть киношные люди, которые хотят себя попробовать в театре. Никаких денег они не платят, и я за это ничего не получаю — в общем, это такой филантропический клуб, спасибо МХТ. Но если они покажут что-то удачное — из этого может вырасти спектакль. Или даже несколько. А может ничего не вырасти. В любом случае дипломов они не получат. В конце концов, режиссер — это характер, и они должны сами пробивать себе дорогу.
 Сцена из спектакля «Дракон»© Михаил Джапаридзе / ТАСС
Сцена из спектакля «Дракон»© Михаил Джапаридзе / ТАСС— Вопрос, возникший у меня после премьеры «Дракона»: ты намеренно хотел выразить смену общественных формаций через смену эстетик? Или ты не формулировал для себя такую задачу?
— Там, конечно, есть эта мысль о переходе от тоталитарного к либеральному как о смене эстетик. Но по большому счету это не привязано к ХХ веку. Наличие цитаты из фильма «Пять вечеров» не означает, что речь идет о смене сталинизма или гитлеризма на режим оттепели. Повторю то, что я говорил с самого начала: это история о том, что черное честнее розового. Красное, кровь, выцветая, становится розовым. Хотя, конечно, в «Драконе» все противоречиво: июльский дождь (впрочем, это кадры из «Я шагаю по Москве»), кровавый дождь, под которым, сняв туфельки, бегает советская интеллигенция, уверенная, что дождь смоет все. Я не отрицаю, что это крайне издевательская версия оттепели. Смена формаций как смена эстетик — это только один из элементов этой истории. «Дракон» — до определенной степени ортодоксальный, религиозный спектакль, требующий веры не с миром, но с мечом. Если ты помнишь, там есть момент, когда голос Константина Симонова читает «Жди меня, и я вернусь», — это абсолютно серьезный момент.
— Хотя в зале иногда возникает нервный смех…
— …у пары дебилов. Но, в принципе, это предельно религиозный момент. Это текст воина, священный текст войны — а на экране появляется прямая аллюзия на Спасителя, приносящего Cебя в жертву. Это угроза второго пришествия и одновременно требование веры. Все это достаточно очевидно, вопрос в том, насколько люди тех или иных взглядов готовы считывать эти смыслы.
— Недавняя питерская выставка Яна Фабра «Рыцарь отчаяния — воин красоты» впрямую перекликается с твоим «Драконом» — не потому, что в обоих случаях появляется Ланселот, это я оставляю за скобками. Но Фабр, по сути, делает то же самое: ты вписываешь лицо артиста, играющего Ланселота, вместо лика Спасителя. А Фабр вешает рядом с великими фламандцами свои миниатюры, нарисованные синей шариковой ручкой. И, рассматривая их, ты понимаешь, что современное искусство очень сложно и многослойно, но его не надо объяснять — каждый понимает его в меру своих возможностей. Картина Фабра «Автопортрет самоубийцы» — нарисованная, кстати, кровью автора — это вообще практически иллюстрация к твоему «Дракону»…
— Не могу комментировать — я не поклонник Фабра.
— Банальный вопрос: можно сражаться с драконом и им не стать?
— Ты задаешь этот вопрос потому, что Ланселот в финале появляется в отвратном виде и понятно, что пафос огня — это пафос режиссерский. Но это интеллигентский вопрос: если человек его задает, он уже априори ответил, что дракона можно не убивать. Дальше этот вопрос превращается в иллюстрацию того, что такое интеллигент на распутье: он готов не убивать дракона, потому что это может превратить в дракона его самого. Человек, задающий этот вопрос, если и не стал драконом, то стал Генрихом. Вот и все.
— Ты сейчас ставишь «Преступление и наказание» — к сорокалетию театра провинции Эмилия-Романья. На сайте театра я прочла, что Раскольников в твоем спектакле — чернокожий эмигрант, не желающий работать. Старуха-процентщица воспитывает свою умственно отсталую дочь Лизавету, а страдающий от рака следователь Порфирий по уши влюблен в Раскольникова… Расскажи, как тебе работается с итальянцами?
— Работаю с удовольствием. Они вроде тоже. Больше ничего пока не скажу.
— Что ты будешь делать дальше? Знаю, что ты собирался ставить еще один спектакль по Вуди Аллену.
— «Мужья и жены» в МХТ в середине июня. Я всю жизнь люблю фильмы и тексты Аллена. Это тонкое чувствование мира, и это блестящий тренинг для русского артиста: пикировка не эмоциями, а интеллектом, умение не играть жилами, быть холодноватым, чуть отстраненным, играя даже самую бытовую, семейную ситуацию. От русского артиста это требует колоссальных усилий — я столкнулся с этим, выпуская «350 Сентрал-парк Вест». Артистам очень трудно быть свободными, легкими, изящными — потому что только в этой ситуации текст начинает работать. У нас сейчас зал хохочет не переставая — при отсутствии гэгов и неочевидно репризном тексте. Но критики не понимают, чего мне это стоило.
Раньше твои коллеги рассказывали мне, что я не владею профессией. И только мой характер, мое упрямство и зрительский успех поменяли что-то в головах.
— Не согласна. И, кстати, могу свидетельствовать: зал дружно ржал уже и на первых спектаклях.
— Знаешь, в чем ужас? Ты работаешь, выдаешь определенный продукт, а приходят критики (я не говорю про обычного зрителя) и говорят: ну чего там, это смешно по факту. У нас критика не может различить, где приложены режиссерские усилия к артисту, она понимает результат, но не понимает, как он достигнут, какая сложность в простоте этого результата.
— Трудно не оценить, как изящно они существуют…
— Ни хрена, Алла, ни хрена! Оценить, что они изящно существуют, — это одно, а понять технологию достижения этого изящного существования — на это критика не способна. Вообще.
— Я могу оставить это при публикации?
— Ради бога. Я даже готов это повторить: у нас критика ничего не понимает в технологии актерского существования. Ни-хре-на! Именно поэтому критик, видя сырой спектакль, не способен предугадать его развитие. Потом через год придет, изумится — если придет. То есть вы приходите на премьеру, видите, что картошка кипит в воде, выхватываете ее и говорите: «Старик, что-то она у тебя не готова». Вы что, не видите, что она еще варится?!
— Иногда она кипит-кипит — и превращается в кашу.
— Нет, по элементам спектакля всегда можно распознать, разовьется — не разовьется, я тебе клянусь! Я в этом отношении резок, потому что критика — это как бы часть процесса и если критика не видит и не может распознать… Слава тебе господи, прошло семь лет, прежде чем постмодерн в театре перестал восприниматься как издевка. То есть критики усвоили, что можно создавать некие миры, которые существуют не по законам в головах сидящих в зале, и они стали прислушиваться к этим мирам. А раньше твои коллеги рассказывали мне, что я не владею профессией. И только мой характер, мое упрямство и зрительский успех поменяли что-то в головах.
— Ладно, все равно не могу тебе ответить — я априори должна защищать цех, к которому принадлежу. Чтобы сменить тему, расскажу, что в январе пересмотрела «Идеального мужа». Спектакль прошел отменно. Я давно не наслаждалась таким куражом!
— Это не кураж. Им не нужен кураж, чтобы завоевать зал, — у них полная автономия, они работают на другом. Это отдельная тема, целый комплекс идей, которые полностью переформатируют артисту мозг, его взаимоотношения с публикой, понимание того, что есть пребывание на сцене, что такое профессия артиста, как рассказывать историю, как рассказывать ее в тысячный раз и т.д. Я ведь не репетирую свои готовые спектакли. Артисты — пилоты этого самолета, в течение репетиций я передаю им управление. Глупо обучить пилота, а потом регулярно стоять за его спиной. Ты должен выпустить их в мир, чтобы они вели этот самолет сами, могли по ходу дела ориентироваться, поправлять, слышать.
— Ну хорошо, а когда они снимаются в сериалах, играют в антрепризе, а потом возвращаются к тебе?
— Мои спектакли так застроены, что человек, существующий в них в другом режиме, будет выглядеть дебилом. У артистов развивается за время репетиций слух — они мгновенно это замечают и переключаются на нужную волну.
— Ясно, что ты разработал систему, которая выгодно отличает твоих артистов от всех других. Понятно, что она нужна здесь и сейчас и очень созвучна времени. Ты не боишься, что она, как и любая система, в какой-то момент начнет устаревать, а ты не заметишь?
— Нет, потому что эта система не говорит с артистами о том, что надо играть в том или в этом стиле. Я пришел к этому не так давно — еще пять лет назад думал, что весь вопрос в мере игры, в стиле игры. Сегодня ты можешь видеть у меня спектакли постдраматические и дико агрессивные, спектакли-шоу и спектакли-шепот. В «Князе» Збруев может существовать в нулевом режиме, а сам я могу кривляться, Миркурбанов может существовать в зашкаливающем плюсе, а Хайруллина — в совершенном минусе…
 Сцена из спектакля «Князь»© Михаил Метцель / ТАСС
Сцена из спектакля «Князь»© Михаил Метцель / ТАСС— Ты интригуешь, скажи конкретнее: как можно работать на сцене и не зависеть от зрителя?
— Не буду я ничего рассказывать. Это очень большой разговор. Достичь свободы очень непросто. Это путь, в котором есть целый ряд технологических ухищрений. Но актер ясно видит цель и ясно видит разницу между тем, что он делает, и тем, что он может делать.
— Полтора года назад ты говорил мне, что поставишь тут один спектакль, там еще один — и уйдешь в кино, потому что нельзя всю жизнь ставить спектакли. Ты передумал?
— За последние полтора года я сформулировал какие-то вещи, и, пожалуй, именно в театре для меня открылись пространства, в которые мне интересно двигаться.
— Ты пока так и не поставил оперу…
— Она будет, но через год.
— А «Волшебная гора»?
— Будем надеяться, что все будет: и Томас Манн в Электротеатре у Юхананова, и опера, и спектакль в Центре Онассиса в Афинах, и спектакль в Варшаве у Гжегожа Яжины.
— Когда выйдет фильм «Настя»?
— Выйдет. Это будет полнометражное кино, но я не рассчитываю на прокатный успех — разве что на фестивальную жизнь.
— Ты хочешь снимать еще?
— Если будет какой-то особый кипеж — у меня нет амбиций снимать ради самого процесса.
— Возвращаюсь к вопросу, который уже задавала пару лет назад: ты готов взять на себя руководство театром?
— Я не рассуждаю в гипотетическом режиме. Будет конкретное предложение — буду думать.
— Страница с «Князем» закрыта, нет предложений его восстановить?
— Я тебе так скажу: взрослые люди — они иногда как дети: ломают что-то и думают, что можно восстановить. Мне спектакль «Князь» был очень дорог, я считаю его одним из лучших своих спектаклей. В определенном смысле это одна из моих вершин. Но бывают потери, которые должны остаться невозвратными. Понимаешь? Сломанные вещи иногда не надо чинить. Это лучший памятник. Напоминание о том, что смерть есть. Смерть спектакля, смерть лежащего в руинах здания. Не все можно склеить. Это напоминание — не мне, но тому, кто этот спектакль убил.
— Ты жестокий.
— Это не жестокость, это прагматизм и работа на будущее. Мы привыкли, что смерть может быть только у живого организма, тем более — убийство. Вот я и хочу, чтобы этот спектакль — факт его убийства — не был перекрыт фактом его восстановления. Реинкарнация не искупит убийства. То же самое в человеческих отношениях. Человек должен нести ответственность за то, что сделал.
— Я сейчас подумала вот о чем: ты разговариваешь со своей дочкой Аней — ты ей говоришь «смерть есть»? Как ты ей это объясняешь?
— Я не разговариваю с Аней о смерти. Я берегу ее от любых депрессивных впечатлений. Ребенок должен жить в ощущении счастья. Его психика так устроена, что он сам заинтересуется чем-то, если это естественным образом войдет в его жизнь. В этом отношении я очень консервативен — считаю, что ребенку не надо знать лишнее. Ребенок должен жить в ощущении мира без боли, без смерти, без целого ряда понятий.
— Ты хочешь сказать, что если ребенок живет в мире счастья и бессмертия, то мир будет поворачиваться к нему только этими сторонами?
— Конечно! Самая страшная ошибка — воспитывать ребенка в ощущении, что мир агрессивен, а жизнь — борьба. В эту секунду человек программируется на то, чтобы везде искать подвох. И напарываться на это. Вот у меня — скажу без скромности, уж на что бойцовский характер, но я воспитан в ощущении абсолютной неопасности мира.
— Ты дрался в детстве?
— Я ни разу в жизни не дрался. Я не пробовал наркотики и не выкурил ни одной травяной сигареты — при том что учился в МГУ в начале 90-х. До беспамятства я напился один раз и случайно. Не потому, что меня от этого оберегали, а потому, что я этого сам не хотел. У меня не было ощущения, что мне это нужно. Вот и Ане я стараюсь передать, что жизнь — не борьба, а игра и радость. Там, где надо бороться, я либо применяю хитрость, либо просто отхожу.
— Что ты сейчас пишешь?
— Ничего. Только тексты для «Русского пионера». У меня произошел прорыв в работе с актером — и мне это сейчас интереснее, чем ваять тексты.
— А Аня ничего пока не сочиняет?
— Нет, что ты. Аня в теннис играет. Ну да — я что-то писал в пять-шесть лет. Но все наши представления о том, что такое образование, стандарты интеллигентности, интеллектуальности, — все ушло в прошлое. Оттого, что они меньше читают, они не становятся менее сложными. Просто мы приобретали сложность за счет чтения, они — за счет таких информационных потоков, от которых у нас бы башка треснула. Вон Аня уже шпарит по-немецки, думаю, через год-два начнет учить английский, а лет в четырнадцать хочу, чтобы учила китайский. И тогда она будет упакована.
— Упакована для чего?
— Для жизни в изменяющемся мире.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Общество
ОбществоТекст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги
1 февраля 202212971 Академическая музыка
Академическая музыка Литература
Литература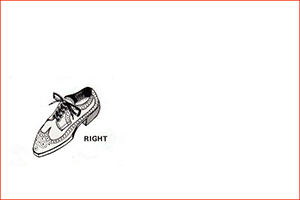 Молодая Россия
Молодая Россия«Говорят, что трех девушек из бара, забравшихся по старой памяти на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства». Рассказ Артема Сошникова
31 января 20221561 Искусство
Искусство Современная музыка
Современная музыка Кино
КиноДенис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат
27 января 20224078 Современная музыка
Современная музыкаТурист, модник, художник и другие малоизвестные ипостаси лидера «Кино» на выставке «Виктор Цой. Путь героя»
27 января 20223893 Молодая Россия
Молодая Россия«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой
27 января 20221597 Литература
Литература Общество
Общество Кино
Кино