 Искусство
ИскусствоЛунный сценограф воображаемого балета
Российско-американский художник Николай Кошелев интерпретирует дягилевские сезоны в живописи и керамике
23 марта 2021266 © Олимпия Орлова / Электротеатр Станиславский
© Олимпия Орлова / Электротеатр СтаниславскийCOLTA.RU продолжает серию публикаций, основанных на событиях весенней сессии «Института театра» — образовательного проекта фестиваля «Золотая маска», направленного на подготовку молодых театральных профессионалов, исследование и критический анализ новых форм театра и новых театральных практик. Сегодня мы публикуем материалы дискуссии «Границы спектакля. Где располагается сегодня спектакль?», состоявшейся в апреле в «Электротеатре Станиславский».
Алена Карась: Мы планировали эту дискуссию как разговор внутритеатральный, разговор об эстетике. Возможно, он будет касаться границ политики — потому что эстетика и политика соседствуют друг с другом. Нам хотелось собрать за одним столом людей разных взглядов, занимающихся театром разного типа, для того чтобы попробовать понять: а существует ли в принципе такой феномен, такой образ, такая дефиниция, как «границы спектакля»? И если существует — то как она функционирует сегодня, что случилось с осознанием этих самых границ за последние годы. Эта тема показалась нам очень важной — все мы понимаем и чувствуем, что в сегодняшнем театре происходят радикальные перемены. Театр все чаще встречается с самим собой на территориях других искусств: что происходит на этих границах? Стирается ли само понятие, само явление театра или оно во что-то трансформируется? Или, наоборот, театр становится глобальной «губкой» (эту идею очень ярко формулирует Марина Давыдова), впитывающей в себя все, что есть вокруг нее? Как ни крути, а все основные силовые линии и напряжения художественных процессов сегодня идеально описываются словом «театр» и через театр проходят.
Клим, предложив в Центре драматургии и режиссуры свой проект под названием «Служение слову», ты сравнил это служение с церковным, храмовым служением. Насколько для тебя этот «переход» по-прежнему важен после трех лет тяжелого, интенсивного, глубокого опыта работы с актером, в служении классическому русскому слову, поэзии — Пушкину, Блоку, Брюсову? Насколько эта граница перехода театра в храм важна для тебя сегодня?
 © Олимпия Орлова / Электротеатр Станиславский
© Олимпия Орлова / Электротеатр СтаниславскийКлим: Наверное, плохо начинать с меня — старого, бессмысленного маразматика, не имеющего никакого отношения к современному театру, не понимающего, что такое современный театр и уж тем более — что такое современное искусство. Моя идея безумно проста. Человек — это язык. Пока существует язык, мы существуем. Как говорит Айги, «Та родина — язык / Быть похороненным — в той родине…» Ничего другого я не знаю.
Меня интересует классический театр. Я всегда занимался классическим театром. Иногда удобно обвинять кого-то в авангардизме — но теперь это, наоборот, скорее достоинство. Я недавно прочел о том, что буржуазное искусство выдумано капиталистами, — и при этом [текст иллюстрируется] «Черным квадратом» Малевича. Очень интересные вещи вообще-то с нами со всеми происходят.
Наверное, если меня поставить, вот как Бориса [Юхананова], руководить театром и заставить разговаривать с труппой — я буду ставить классические спектакли. Но мне Бог позволил сейчас, последние пять лет, безумствовать. И это безумие заключается в том, что я хочу, чтобы мы слышали язык.
Если говорить о границах [спектакля], то для начала нужно понять, что первая граница — материальная: сколько у меня денег, где я нахожусь — никуда от этого не деться. Вторая граница — актерская. И в этом смысле мы находимся в страшной заднице. Потому что мы не можем назвать сейчас ни одного актера, способного… Я тут посмотрел фильм с Мерил Стрип и думаю: «Ну и какой русский актер в состоянии настолько отдаться процессу творчества?»
То, что я сейчас скажу, прозвучит, возможно, жестко, но я намеренно заостряю. Один человек написал книжку о том, что современный театр, видите ли, стал такой постдраматический, признав факт того, что театр потерял некое глубинное внутреннее содержание. Но Россия — это стиляжническая страна. Раз сказали, что теперь театр постдраматический, — мы, задрав штаны, побежали за комсомолом. Что такое постдрама — никто не знает, и я в том числе, хотя мне и говорят, что «ты отвечаешь всем критериям постдраматического театра». Но мне очень не нравится, когда всей этой хренью оправдывается отсутствие театра драматического.
 © Олимпия Орлова / Электротеатр Станиславский
© Олимпия Орлова / Электротеатр СтаниславскийВсеволод Лисовский: Что важно понимать, произнося слово «граница»? Что граница — вещь крайне условная. Ее физически не существует. Лучшую фразу про границы произнес Чингисхан: «Где у меня граница? А граница у меня там, куда монгольская лошадка доскачет». Собственно говоря, к театру и спектаклю это относится точно так же. Для того чтобы сейчас сказать: «Это театр, это спектакль», — в максимальной комплектации нужно два идиота. Один идиот, типа актор, говорит: «Это спектакль». А второй, типа зритель, с этим идиотом соглашается. Хотя, в принципе, и эту комплектацию можно признать избыточной — возможно, что для этого достаточно одного идиота или вообще можно обойтись без одного идиота и без умных тоже обойтись.
Важно понимать, когда говоришь о границе, что есть две стратегии отношения к ней — оборонительная и наступательная. Оборонительное отношение к границе совершенно контрпродуктивно. Любую границу, которую долго охраняют изнутри, в конце концов взламывают, и внутреннее пространство апроприирует кто-то другой. Есть наступательная стратегия — и тут надо понимать, что сейчас из всех искусств современное искусство является самым влиятельным. Что такое влияние в отношении какого-либо искусства? Есть индустриальная логика, когда успешность — это, допустим, возможность заполнить зрительный зал. А есть постиндустриальная логика, когда неважно, где произведен телефон, главное, где произведен софт, где производятся модели коммуникации.
Так вот, современное искусство — не знаю, какая там наполняемость залов или другие количественные [показатели], — крайне влиятельно, потому как оно — модель коммуникации. И медиа, и политика — это все сплошное современное искусство. Если рассматривать поле искусства как карту какого-то средневекового мира, то современное искусство — это Римская империя: большое, влиятельное, рыхлое, аморфное. А театр — это такое небольшое княжество Аттилы. То есть существуют, по-моему, все возможности для того, чтобы провести экспансию.
Теперь насчет слова. У меня ближайшая аналогия слова — это деньги. У денег какие бывают недостатки? Их бывает слишком много, и они занимают слишком много места в сознании. Когда их слишком много — это называется «неконтролируемая эмиссия», — происходит девальвация, деньги становятся дешевле. А когда они занимают много места в сознании, возникают консюмеризм и прочие неприятные явления.
Cовременное искусство — это Римская империя. А театр — это такое небольшое княжество Аттилы. То есть существуют все возможности для того, чтобы провести экспансию.
У меня такое представление, что любой человек, который использует как механизм абстрактное мышление, вынужден (хочет он этого или не хочет) предполагать существование мира идей. Кроме того, как физический, биологический объект, человек все же предполагает, исходит из того, что существует мир телесный, мир чувственный. Слова — это теоретически механизм коммуникации между этими двумя мирами. Просто в ходе безумной эмиссии этой субстанции она превратилась в некий третий континент — то есть там, где должен был быть мост между двумя горами, выросла новая гора. И все мои скромные потуги связаны с тем, что я как-то хочу эту третью гору попытаться обойти. При том что против слова как такового я ничего не имею.
Борис Юхананов: Мир, как мы знаем, прекрасен именно потому, что его пронизывает невероятное разнообразие — в том числе и разнообразие границ. Сегодня мы можем наблюдать тотальное преодоление границ или их изменение; возможно, возникают новые границы, которые мы не успеваем осознать.
Например, мы говорим о слове. В начале 80-х мы вместе учились с Климом у двух прекрасных мастеров, у Эфроса и Васильева. В первую очередь, они занимались с нами диалогом — как превращать диалог в игру. В те времена все, что я делал, часто не умещалось в эти рамки, но я все равно каждый день возвращался к ремеслу: автор, написанная им пьеса, режиссер, который должен разгадать и обобщить авторский замысел, актер, который все это сыграет. Казалось, что театр целиком умещается в простую коммуникативную схему.
 © Олимпия Орлова / Электротеатр Станиславский
© Олимпия Орлова / Электротеатр СтаниславскийПрошло время. И оказалось, что это не совсем так, что этой формулой не исчерпываются ни театр, ни восприятие мира. Выходя из ГИТИСа, мы не знали очень многого — про таинство создания сценографии, про возможности работы с тканью, с фактурой, с костюмом, про то, что скрывается за светом, за организацией световой партитуры, и как стремительно все это — не менее стремительно, чем киноиндустрия, — развивается. И я вдруг ощутил невероятную тоску по технологиям. Но изучать их, встретиться с ними в реальной практике я не мог — у меня не было ни денег, ни возможностей. И я ощутил себя в каком-то новом рабстве. Я ощутил себя (не в первый раз, надо признаться) тем самым древним евреем, который в очередном акте своей жизни должен вновь испытывать палки ограничений, палки границ.
Конечно, Моисеев порыв андеграундной души заставил меня ступить на этот нетвердый песок. Я шел почти сорок лет по этой пустыне (вам ничего это не напоминает?), пока не вымер окончательно. Чтобы избавиться от границ, надо умереть, это нам еще Моисей объяснил. Нужно, чтобы твой внутренний народ полностью сдох, — только тогда тебе откроется этот брезжущий Иерусалим театрального универсума. Так возник Электротеатр.
Но пока я разбирался во всем этом тяжелом знании театральных технологий, театр пренебрежительно вышел наружу, сказал, что все это хрень, — и стал проживать на тех самых пустырях, где я когда-то начинал. Это удивительное чувство, парадоксальная петля — «А не зря ли я прожил свою жизнь?»
Чтобы избавиться от границ, надо умереть, это нам еще Моисей объяснил.
Нет, похоже, что не зря. Теперь тем, кто находится на этих пустырях, я как родной. Я могу послать им сигнал — но не отрицания, не пренебрежения, а родства. И вот этот сигнал родства, как мне кажется, наполняет театр сегодня. В наши дни границы расширились настолько, что сигнал родства проходит в самые дальние уголки мира и человека. И если мы будем идти путем родства, то сможем обнаружить, насколько изумительно разнообразен сегодня театр и насколько он родственен во всех своих, казалось бы, противоположностях.
Когда Ги Дебор в конце 50-х годов вздыхал об обществе спектакля, наполняясь левыми энергиями, то он даже не мог себе представить, насколько он прав. Только его минус надо перечеркнуть еще раз — и увидеть в нем плюс.
Дмитрий Волкострелов: Я глубоко убежден, что границы необходимо уничтожать, — несмотря на то что сегодня, как мы видим, границы, наоборот, множатся, а некоторые даже планируют строить на границах стены. Наша задача — медленно-медленно стирать любые границы ластиком.
Впрочем, в случае искусства, у которого границ, как известно, нет, мне кажется более уместным говорить скорее о рамке — позволяющей нам взглянуть на жизнь как-то по-другому.
 © Олимпия Орлова / Электротеатр Станиславский
© Олимпия Орлова / Электротеатр СтаниславскийЧто касается классического и традиционного, то здесь я, на самом деле, не вижу никакого особого конфликта. Я не ощущаю ни малейшего внутреннего противоречия со школой, которую я прошел, — точнее, с опытом, полученным мною в годы учебы у Льва Абрамовича Додина. Если и была какая-то внутренняя война, то она давно прекратилась — мы расстались с миром в ситуации, когда не может быть ни победителей, ни проигравших. Мучительный внутренний диалог со Львом Абрамовичем, продолжавшийся у меня еще очень долго после окончания обучения, в какой-то момент закончился — и все.
Мы очень часто говорим о театре, о том, какой он сегодня, что с ним сегодня делать, о его границах или об их отсутствии. Мне же кажется более важным думать о будущем. Мы существуем в мире, где отчаянно побеждает правый популизм, и мне как художнику (прошу прощения за это громкое слово) страшно за этим наблюдать. Но я надеюсь, что это лишь временный откат. Да, глобализация не победила, да, глобальная экономика не сработала, и ничего не вышло — поэтому правый популизм настолько сейчас активен, поэтому Британия выходит из ЕС. Все это понятно. Но я искренне верю в то, что это временное явление. Просто человечеству свойственно иногда ошибаться.
Карась: Мы затронули очень важную тему на границах эстетики и политики: поражение глобализма восстанавливает границы — этнического, национального, религиозного. Есть ли в этой ситуации некий вызов для художника? Должна ли измениться его стратегия в эпоху, когда границы не разрушаются, а только крепнут?
Волкострелов: В том, что глобализм провалился, нет, в сущности, ничего плохого. Глобальная экономика, как известно, уничтожает множество очень важных вещей: к примеру, сетевые кофейни уничтожают маленькие частные кофейни, которые мы все так любим. Я вот, к примеру, глубоко переживаю закрытие одной такой кофейни в Петербурге, в которой я проводил очень много времени, — большие рыбы пожирают малых. Но я надеюсь на то, что рано или поздно человечество придумает что-то еще, что условные рыбы найдут какой-то иной способ удовлетворения своего голода и не будут пожирать себе подобных, — именно этим, мне кажется, и должно заниматься искусство.
 © Олимпия Орлова / Электротеатр Станиславский
© Олимпия Орлова / Электротеатр СтаниславскийКсения Перетрухина: Мне чрезвычайно близка мысль о «сигнале родства», высказанная Борисом [Юханановым]. Все, что я делаю, заточено под коммуникацию со зрителем, под работу с его восприятием. Из этого, собственно, и проистекает какое-то нарушение границ, их пересмотр: как сделать так, чтобы театр был живым, чтобы человек встрепенулся, на какое расстояние к нему нужно приблизиться, чтобы речь звучала правдиво? Поэтому я занимаюсь телесно-ориентированным, тактильным театром. Сегодня слово — при всем гигантском к нему уважении — очень сложная для работы зона. Установить коммуникацию со словом невероятно трудно, у зрителя стоят блоки — раз слово, значит, реклама, пропагандистская машина, средство давления. Я как художник выросла из полемики с вербальной культурой.
Но, возвращаясь к разговору о границах, должна сказать, что для меня в последнее время становится все более и более важным невоинственное отношение ко всем другим типам театра — я стараюсь их уважать. Для юного художника вроде бы естественна прямо противоположная стратегия — «художник художника должен ненавидеть», как говорят в современном искусстве: ты формируешься через отрицание. А для меня сейчас, особенно в ситуации раздробленности сообщества, принципиально важна мысль о том, что все мы — единое, обогащающее друг друга поле. И даже если я делаю что-то, радикально отличающееся от того, чем занимаются мои коллеги, мы все зависимы друг от друга, мы друг друга питаем и находимся в куда более интенсивном диалоге, чем нам кажется.
Первым в списке предложенных нам к обсуждению вопросов значился тезис о проведении границ по отношению к уже существующим типам театра. Думая о зрительском восприятии, я все время нахожусь в полемике с неким Театром Театровичем — то есть я предполагаю, что человек приходит в театр с определенными ожиданиями. И для меня было очень важно в какой-то момент понять, что я полемизирую не с каким-то конкретным плохим типом театра, а с разным театром, который совершенно не обязательно плох.
Завершая разговор о границах, кажется важным вспомнить о ключевом в современном искусстве критерии — критерии новизны. Я, как это ни странно, всегда программно выступаю против него: критерий новизны не дает нам прожить какие-то существенные вещи, которые мы вроде бы не можем повторять, потому что все время надо придумывать новое, потому что мы должны постоянно обновляться. В этой ситуации уместно вспомнить Татлина: «Не к новому, не к старому, а к нужному».
 © Олимпия Орлова / Электротеатр Станиславский
© Олимпия Орлова / Электротеатр СтаниславскийКлим: Я хочу по итогам дискуссии высказать одну мысль. «Границы спектакля» и «границы театра» — это, мне кажется, две разные темы и два разных пространства. Театр — вещь безграничная. А спектакль — ограниченный, потому что он имеет форму. Поэтому, когда мы говорим о безграничности театра, я соглашаюсь, потому что для меня и церковь — форма театра, только очень развитая и совершенная. Это вообще основа человеческого общения. А когда мы говорим о границе спектакля, возникает огромное количество вопросов. То, что мы делаем, должно быть как-то понято или понимаемо. Если помните, у Ленина была фраза, которая в оригинале звучала так: искусство «должно быть понято народом». После 1925 года она звучала уже так: искусство «должно быть понятно народу». «Понято» и «понятно» — та граница, которая, на самом деле, между всеми нами пролегает, это две разные категории искусства. Искусство — это шило в заднице. А культура — это задница, она всегда опускается. И ничего мы с этим поделать не можем.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Искусство
ИскусствоРоссийско-американский художник Николай Кошелев интерпретирует дягилевские сезоны в живописи и керамике
23 марта 2021266 Академическая музыка
Академическая музыка Кино
Кино Общество
ОбществоПочему протест без программы ведет к «украденным революциям»? Как это использует Навальный? И что в этой ситуации делать левым? Текст Олега Журавлева и Кирилла Медведева
19 марта 2021230 Современная музыка
Современная музыка«Божественная комедия» в стиле дрилл: новый концептуальный альбом хип-хоп-проекта «Грязь»
19 марта 2021261 Общество
ОбществоСегодня на Кольте онлайн-премьера одного из лучших отечественных доков последних лет. Нам помогла в этом платформа «Пилигрим»
19 марта 2021286 Colta Specials
Colta Specials Кино
КиноИсторик Олег Бэйда — о «Естественном свете» Денеша Надя, победившего в Берлине с сумрачной зарисовкой венгерской оккупации СССР
18 марта 2021224 Литература
Литература Литература
Литература Искусство
ИскусствоАнастасия Семенович о конфликте вокруг Фаберже и о том, почему Эрмитажу стоит подумать о буфете
16 марта 2021177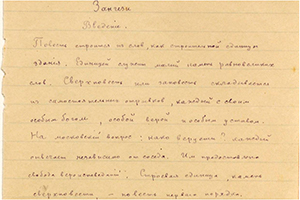 Литература
Литература