 Литература
ЛитератураЧеловек-лаборатория
 © AFP / East News
© AFP / East News10 октября в рамках фестиваля «Территория» в «Электротеатре Станиславский» пройдет презентация книги Яна Фабра «Я — ошибка» — первого на русском языке издания пьес выдающегося бельгийского режиссера, хореографа и художника. В книгу, изданную в серии «Театр и его дневник» при поддержке Фонда фламандской литературы, вошли тексты для театра, написанные Фабром с 1988 по 2015 год (перевод Ирины Лейк), и его рисунки. Право первой публикации фрагментов книги — вступительной статьи искусствоведа Анны Толстовой и пьесы Яна Фабра «Я — ошибка» — «Электротеатр Станиславский» любезно предоставил COLTA.RU. Тексты печатаются в авторской редакции.
В зале Рубенса в Эрмитаже среди эскизов, что ценятся знатоками больше, чем законченные полотна «Гомера живописи», есть работы, связанные с одной грандиозной театральной постановкой художника — убранством Антверпена к торжественному прибытию испанского наместника Фердинанда Австрийского. Обычно Рубенс не воспринимается в контексте театра, разве что когда говорят о театральности барочной живописи, но 17 апреля 1635 года он выступил главным режиссером спектакля, где город, полностью преображенный фантастическими архитектурными декорациями, на целый день превратился в сценическую площадку, а триумфальная процессия кардинала-инфанта — в актеров. Читая описания очевидцев, можно подумать, что Рубенс предвосхитил вагнеровский Gesamtkunstwerk, задействовав все виды искусства в своей великолепной феерии. Умелый дипломат, он не преминул вложить в нее политические смыслы, иносказательно обратившись к вступающему в город правителю с призывом примириться с голландцами, блокировавшими устье Шельды, что грозило гибелью антверпенской торговле и промышленности. Таков эрмитажный эскиз «Меркурий покидает Антверпен», изображающий триумфальную арку: в центральном проеме на авансцену выдвинулась коленопреклоненная просительница, персонификация Антверпена, с мольбой указывающая на закованного в кандалы бога Шельды, корабли со спущенными парусами и Меркурия, покровителя коммерции, уже готового удалиться, а в боковых нишах представлены аллегории мирного процветания и вызванного войной разорения. Рисуя фигуры Богатства и Изобилия, Рубенс придерживается вполне конвенционального языка аллегорий, но обращаясь к образу Бедности, он превозмогает условности и пробивается к сегодняшнему зрителю сквозь толщу мертвых аллегорических штампов. Мы видим семью рыбака, впавшую в нищету: мать протягивает сыну последний улов отчаявшегося отца — кочан капусты, — и голодный ребенок столь яро вгрызается в овощную плоть, что и в наши дни на эту сцену, исполненную такой физической, телесной правды и выразительности, нельзя смотреть без слез.
Пьесы Яна Фабра, собранные в этой книге, полны размышлений о слезах, хотя катарсис, к которому он, нисколько не стесняясь пафоса и старомодности, ведет актера и зрителя, не обязательно сопровождается очистительным плачем и часто близок к эротическому экстазу. Но зритель знает, что актер театральной компании Troubleyn представляет собой «плачущее тело» — оно исходит на сцене потом, кровью, слезами, мочой и прочими телесными соками, пульсацию которых мы ощущаем под кожей каждого персонажа Рубенса, великого философа-антрополога эпохи барокко. В его мифологической картине мира стихия воды символизирует саму жизнь в бесконечном круговращении: течение истории, как в «Союзе Земли и Воды», прославляющем освобождение Шельды, и быстротечность человеческого века, как в «Вакхе», где молодое вино живительной влагой наполняет вакханок и вакхантов, но праздник урожая знаменует осень и грядущее умирание всего живого. Гимном телесным сокам барочного организма звучит и моралите «История слез», в котором слезы метонимически обозначают все «жидкости нашего тела». Рыцарь отчаяния, alter ego Фабра, принимает вызовы, брошенные ему Диогеном («Ищу человека») и Роланом Бартом («Кто напишет историю слез?» во «Фрагментах речи влюбленного»): начертав на щите девиз кихотизма Мигеля де Унамуно, он отправляется в крестовый поход ханжества, репрессировавшего подлинную сущность человека. Культура постепенно табуировала все выделяемые телом жидкости — от менструальной крови до пота — как постыдные, и вот уже полностью обезвоженное современной моралью, оно предстает в виде иссушенной и бесплодной скалы. Но рыцарь отчаяния, подобно физиологам античности не отделяющий физическое от духовного, находит сердцевину человеческого в объявленных срамными флюидах и требует их реабилитации. И если в истории искусства возможна реинкарнация то чувственность живописи Рубенса, заставляющая нас душой и телом сопереживать живописным спектаклям плоти, — цветущей и увядающей, прекрасной и безобразной, страдающей и беззащитной, — спустя столетия претворилась в физиологичность театра Фабра, чья труппа на сцене переживает пограничные опыты телесного существования с такой «последней прямотой», что ее изнеможение, боль и наслаждение передаются публике.
Первое русское издание театральных сочинений Яна Фабра, проиллюстрированное его графикой, напомнит читателю барочный трактат наподобие «Анатомии меланхолии» Роберта Бертона, где текст то и дело сбивается на средневековую латынь, а картинки напоминают книги эмблем. Девять пьес, собранных под одной обложкой, объединены лейтмотивом физиологии тела и составляют своего рода анатомический атлас, снимающий с человека все покровы, культурные и природные: словно бы автор-вивисектор, выворачивающий свой объект наизнанку, копающийся во внутренностях и обнажающий скелет, надеется дойти до самой сути человеческого — ведь после того, как Бог умер, оно более не внеположно сотворенным по образу и подобию. Публикующиеся здесь рисунки, сделанные порою на листках школьных тетрадей и стилистически балансирующие между любительством фанзинов и маргиналиями иллюминованных манускриптов, являются эскизами к спектаклям или инсталляциям. В театре и музее эти словесные и графические сценарии развиваются в сложные метафорические образы, ключ к расшифровке которых можно найти в барочных аллегориях vanitas. Черепа, кости, могильные черви, бабочки, покидающие кокон, как душа телесную оболочку, сами мертвенные оболочки, будь то чучела животных, панцири златок, переливающиеся, как перья тщеславных павлинов, рыцарские доспехи или монашеские рясы, тонкое стекло, увядающие цветы — искусство вот уже несколько столетий твердит о хрупкости и тщете бытия с помощью этих символов. И в то же время аллегория бренности оборачивается аллегорией эфемерности и скоротечности театрального события, аллегорией самого театра Яна Фабра, чьи актеры сбрасывают земные одежды, клоунские колпаки и шутовские доспехи «воинов красоты», чтобы, превозмогая телесное, уподобиться ангелам и по окончании представления вновь спуститься на землю.
В 1980-е, когда Фабр дебютировал как режиссер и хореограф, стремительно завоевав репутацию одного из лидеров театрального авангарда, барочная чувственность сделалась вновь актуальной — духом барокко полны фильмы Дерека Джармена и Питера Гринуэя, фотографии Роберта Мэпплторпа и Андреса Серрано. Барочное понимание телесности, проникнутое меланхолией, поскольку оргиастические восторги дионисийского жизнелюбия омрачаются сознанием бренности всего земного, оказалось созвучно десятилетию, которое было отмечено началом всемирной эпидемии СПИДа: обострившаяся на ее фоне борьба между консервативными идеологиями и эмансипационными движениями поставила тело, его свободу и уязвимость, в центр политико-философских дискуссий. В этом контексте острее переживается современность рубенсовского барочного гуманизма, современность его пирующего на краю могилы «Вакха», который вдохновлял Фабра давно и в итоге сделался талисманом для самой большой театральной фрески компании Troubleyn — «Горы Олимп», разворачивающейся в 24-часовые дионисии. И подобно тому, как Рубенс в «Вакхе» непринужденно смешивает классическую ученость с простонародным юмором, Фабр в «Горе Олимп» легко превращает вневременную греческую трагедию в злободневную политическую сатиру. Но и не видевший спектаклей Фабра читатель почувствует, как быстро переключаются регистры в его драматургии, где экзистенциалистская проза Жана Амери вполне естественно перетекает в сентиментальную кантри-балладу, которая, в свою очередь, обнаруживает родство с вагнеровской оперой.
Физический театр Яна Фабра, подводящий тело исполнителя к пределу его возможностей, принято выводить из «театра жестокости» Антонена Арто, прямые и косвенные посвящения которому можно найти на этих страницах. Но все же не стоит забывать, что Фабр пришел в театр из сопредельной области — из визуального искусства, и его важнейшие театральные премьеры 1980-х состоялись на главных художественных фестивалях: «Сила театрального безумия» была сделана по заказу XLI Венецианской биеннале, «Стекло в голове будет из стекла» — по заказу Documenta 8. Примечательно, что съемка к этим спектаклям принадлежит лучшим фотографам обнаженного тела конца века: «Власть театрального безумия» снимал Роберт Мэпплторп, «Стекло в голове» — Хельмут Ньютон. На Мэпплторпе и Ньютоне, работавших на самом острие моды, завершается история обнаженной натуры — дисциплины, лежащей в основе языка классического искусства. Обоих в известном смысле можно назвать наследниками Рубенса, величайшего реформатора грамматики обнаженной натуры, придавшего современные смыслы античному идеалу и примирившего его с католическим мироощущением эпохи Контрреформации.
Взлет абстракции в XX веке, казалось, положил конец господству телесного начала в искусстве, но радикальный перформанс 1960-х — 1970-х годов вернул доверие к телу как средству выражения, и в спектаклях Фабра нередко проскальзывают аллюзии на венских акционистов или Марину Абрамович и Улая. Он шел к театру и от картины, и от перформанса — ряд его юношеских работ рубежа 1970-х и 1980-х был посвящен тем создателям системы современного искусства — Марселю Дюшану, Энди Уорхолу и Йозефу Бойсу, — кто при всей радикальности своих жестов не смог совершенно освободиться от присутствия человеческого образа. Следы этого перформативного прошлого, многим обязанного эстетике минимализма, и сейчас видны в его театре и визуальном искусстве, в хореографии повторяющихся движений и в почти что грифонажном рисовании синей шариковой ручкой. Сам Фабр объяснял переход к театру вполне в духе идеологии радикального перформанса — желанием избежать коммодификации произведения искусства и жаждой непосредственного контакта со зрителем здесь и сейчас. Но в то же время бегство на пограничную территорию театра и танца позволяло, не боясь китча и смягчая пафос уленшпигелевским озорством, поставить в центр события искусства человеческое тело — как средоточие возвышенного и прекрасного, как последнюю истину в мире — и бесконечно признаваться в любви Рубенсу и прочим рыцарям чувственного образа.
Сегодня в России у Яна Фабра сложились две преданные аудитории, театральная и художественная, какие, как кажется, по большей части не пересекаются. Одна знает его как автора показанных на московских сценах спектаклей «Оргия толерантности», «Однажды сонным, пыльным днем в Дельте» и «Бельгия правит / Бельгийские правила», другая помнит выставку-интервенцию «Ян Фабр: рыцарь отчаяния — воин красоты» в Эрмитаже. И те и другие могли заметить, что Фабр, как и Рубенс, патриот Антверпена, Фландрии и Бельгии, при всей иронии беззаветно преданный своей родине, хотя патриотизм, как и иные романтические предрассудки вроде культа старых мастеров, принято относить к числу консервативных ценностей, несовместимых с титулом авангардиста. Спектакль «Бельгия правит / Бельгийские правила» был выстроен как картинная галерея шедевров фламандской и бельгийской школ — от Яна ван Эйка до Рене Магритта. Готовясь к вторжению в Эрмитаж, Фабр предпочел выставляться в залах своих соотечественников, как если бы для диалога с ними ему требовался родной язык. Известно, что полиглот Рубенс писал на разных языках и, кажется, реже всего — по-фламандски. Пьесы Фабра полны внушительных латинских пассажей и цитат из американской рок-лирики. Будем надеяться, что эта книга поможет преодолеть трудности перевода между наречиями разных искусств, показывая, что синтетический пространственно-временной Gesamtkunstwerk Яна Фабра принципиально многоязычен.
Анна Толстова
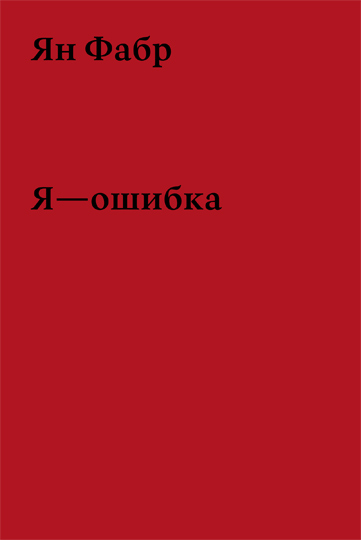 © Электротеатр Станиславский, 2018
© Электротеатр Станиславский, 20181988
Монолог для прожженного курильщика
Посвящается Луису Бунюэлю
(Весь текст следует читать, кашляя и периодически закашливаясь)
Я — ошибка.
Потому, что не отношусь к какой-то расе.
Я — ошибка.
Потому, что я лидер движения из одного человека.
Я — ошибка.
Потому, что я все еще любопытен.
Я — ошибка.
Потому, что я — свой собственный кровный враг.
Я — ошибка.
Потому, что я не болен.
Я — ошибка.
Потому, что я не боюсь смерти.
Я — ошибка.
Потому, что я никак не связан с современным обществом.
(Поджигает сигарету и прикуривает)
Я — ошибка.
Потому, что я — пчелиный улей.
Я — ошибка.
Потому, что ненавижу моду.
Я — ошибка.
Потому, что я отчужден.
Я — ошибка.
Потому, что я все повторяю.
Я — ошибка.
Потому, что я не верю новостям.
Я — ошибка.
Потому, что я — никудышный актер.
Я — ошибка.
Потому, что хочу невозможного.
(Поджигает сигарету и прикуривает)
Я — ошибка.
Потому, что я — неудачник во всем.
Я — ошибка.
Потому, что я горд.
Я — ошибка.
Потому, что я чрезмерно высокопарен.
Я — ошибка.
Потому, что подвержен благородному страху.
Я — ошибка.
Потому, что я — матка.
Я — ошибка.
Потому, что мне наскучила духовная жизнь других.
Я — ошибка.
Потому, что я — глупый карлик.
(Поджигает сигарету и прикуривает)
Я — ошибка.
Потому, что не люблю говорить о себе.
Я — ошибка.
Потому, что я высоко ценю бедность.
Я — ошибка.
Потому, что эрудиция не вызывает у меня доверия.
Я — ошибка.
Потому, что я — опасное животное.
Я — ошибка.
Потому, что я — возможность.
Я — ошибка.
Потому, что я — чужак.
Я — ошибка.
Потому, что я не знаю стыда.
(Поджигает сигарету и прикуривает)
Я — ошибка.
Потому, что не доверяю солнечному свету.
Я — ошибка.
Потому, что уничтожаю свою работу.
Я — ошибка.
Потому, что у меня слишком много нервов.
Я — ошибка.
Потому, что я не чувствителен.
Я — ошибка.
Потому, что я — наглый хам.
Я — ошибка.
Потому, что я не знаю нежности.
(Поджигает сигарету и прикуривает)
Я — ошибка.
Потому, что хочу быть ошибкой.
Я — ошибка.
Потому, что я — не человек.
Я — ошибка.
Потому, что я — бог.
Я — ошибка.
Потому, что бессонница дарует мне жизнь.
В урагане снов
Меня накрывают
Волны ночных кошмаров,
И я тону в них.
Все, что только возможно на свете,
Я уже придумал, пережил и создал.
И ни один волос на моей голове
Не надеется
Разгадать эти сны.
Один из них всегда возвращается.
Он сопровождает меня,
Как терпеливый друг.
Я вижу себя
В толпе людей.
У них у всех есть тело.
А я...
Я и есть тело.
Я — тело, наполненное теплом.
Оно сияет, как раскаленное железо,
Оно дымится и плавится.
(Поджигает сигарету и прикуривает)
Сигарета — удовольствие
Для всех органов чувств.
Для глаз.
Для обоняния.
Для ощущения.
Я — ошибка.
Потому, что я всегда
Убивал
Мою страстную,
Возвышенную
Любовь
Другой
Страстной, возвышенной любовью.
Я лгу?
Или это похоть?
Я больше не могу отличить...
Правду от лжи.
Вот что всегда удерживало меня в этой жизни.
И до сих пор.
Я выживаю.
(Поджигает сигарету и прикуривает)
Я люблю оценить сигарету,
Зажав ее пальцами.
Почувствовать губами
Фильтр.
Ощутить вкус табака
На языке.
Осознать
никотин в легких.
Смотреть на движение
Струйки дыма.
Я — ошибка.
Потому, что моих желаний слишком много
И они сильнее, чем голод.
Их сложнее утолить.
Анархию похоти
Не примирить
С жизнью.
Она чересчур радикальна
И все подавляет.
Только смерть
Может ее спасти,
Принять ее.
Люди поджигают сигарету,
Чтобы отпраздновать маленькую радость
Или чтобы спрятать боль в сердце.
Я — ошибка.
Потому, что мою жизнь
И мою работу,
На мой взгляд,
Я строю
ОРГАНИЧНО.
Меня не волнует,
Что именно люди обязаны делать,
Или что должны говорить.
Так что на солидарность...
Мне не стоит рассчитывать.
Так что я курю один.
(Поджигает сигарету и прикуривает)
Сигарета — мой верный спутник
Во всем, что происходит
В моей жизни.
Я — ошибка.
Потому, что я бессмертен.
Иногда мне обидно.
Ведь вовремя умереть —
Неплохо для художника.
История все поправит,
А во многих случаях
Это очень приветствуется.
(Играет с зажженной спичкой)
Я люблю движение
Цветов,
Как они переходят друг в друга.
Как вспыхивает
Маленькое пламя.
Блеск,
Мерцание,
Смерть
Кусочка дерева.
Шипение,
Древесный уголь,
Темнота
И новое начало.
Я — ошибка.
Потому, что я бессмертен.
Иногда мне обидно.
Мне нужно научиться с этим жить.
И внешнему миру тоже.
(Поджигает сигарету и прикуривает)
Еще сигаретку.
Моя верная подружка
В плохие
И в хорошие времена.
Помню...
Одну статью в «Нью-Йорк таймс»,
Сплошная похвала.
Ну, про мою работу.
Помню...
Последняя фраза там была:
«This brilliant Belgian artist is a genius».
Чересчур хорошо, чтобы быть правдой.
Но должен признаться,
Я наслаждался.
Хохотал во все горло,
Когда подумал,
Сколько же ненависти и ревности
Эта статейка сейчас разбудит
В моей собственной стране.
Надо было бы мне тогда
Умереть на месте.
Но, к сожалению, этого не случилось.
Потому, что я бессмертен.
Я — ошибка.
Потому, что все, что я говорю, —
Честно.
Мне чужд цинизм.
Ирония — для слабаков.
Я — человек...
Который понимает...
Что он — наглец,
Он — современный аристократ
И раздолбай.
Я — ошибка.
Потому, что я веду себя неразумно.
Я курю.
Я курю слишком много.
Слишком-слишком много.
День и ночь.
У меня рак.
Рак горла.
Доктора говорят...
Что я умру.
Но я все равно курю.
Слишком много.
Слишком-слишком много.
Быть разумными —
Удел дураков.
Я бы не мог
Смотреть себе в глаза в зеркале,
Если бы позволил врачам
Управлять собой.
Я не представляю,
Как бы я смог жить.
Или как бы я мог умереть.
(Поджигает сигарету и прикуривает)
Я верен
Удовольствию,
Что пытается меня убить.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Литература
Литература Театр
Театр She is an expert
She is an expert Академическая музыка
Академическая музыка Литература
ЛитератураПо просьбе COLTA.RU Мария Нестеренко поговорила с исследователем о sound studies, его последней книге и о том, зачем философии нужен звук
23 декабря 2021225 Литература
Литература Современная музыка
Современная музыка She is an expert
She is an expert Colta Specials
Colta SpecialsФотоотчет с выставки, где детская культура полувековой давности встречается с современностью
22 декабря 2021145 Искусство
ИскусствоАнна Борисова о том, что рождается из волн живописной психоделии и нового нью-эйджа
21 декабря 2021193 Современная музыка
Современная музыкаНовые альбомы Noize MC, Oxxxymiron, «Обе две», «Спасибо» и другие примечательные отечественные релизы месяца
21 декабря 20213715 Молодая Россия
Молодая Россия«Мужики работали на волоке — перетаскивали машины с одной трассы на другую». Рассказ Максима Калинникова
21 декабря 20211369