В театральной серии издательства «Новое литературное обозрение» выходит второй том антологии «Новая русская музыкальная критика», посвященный русскому балету и танцевальному театру. Московская презентация издания, подготовленного при поддержке фестиваля «Золотая маска» и банка «Зенит», состоится 19 сентября в Электротеатре «Станиславский». Сегодня COLTA.RU представляет премьеру двух фрагментов книги — предисловия Вадима Гаевского и вступительного слова составителей Павла Гершензона и Богдана Королька, любезного предоставленных для публикации «НЛО» и авторами.
 © «Новое литературное обозрение»
© «Новое литературное обозрение»Новые имена
Вадим Гаевский
То, что мы назвали «новой балетной критикой», — не простая игра слов, не редакторское изобретение, не фикция, а реальность. Это явление и в самом деле существовало, возникая на особых правах в русской культурной жизни, притом дважды: в первые годы ХХ века, когда появился так называемый новый русский балет, и в последние годы того же ХХ века, когда стал умирать старый советский балет и появилась острая необходимость скорейшим образом убрать его с дороги. Ситуация — особенно во втором случае — была увлекательной, но и непростой и даже небезопасной, выходящей за рамки балетного театра. Она требовала многих умений и разных качеств, профессиональных, человеческих, гражданских. И она должна была выдвинуть — и выдвинула — своих партизан, своих лидеров, своих мыслителей, своих хроникеров.
Я помню, как это началось, когда снова можно было с интересом — а нередко и с восхищением — читать статьи о балете: рецензии на спектакли, актерские (исполнительские) и режиссерские (балетмейстерские) портреты, обзоры сезона. До того в прессе царило то, что можно назвать критической макулатурой. А говоря более вежливо и более точно — балетоманская критика, изъявление восторгов вне всяких попыток что-то разъяснить, в чем-то разобраться. Критика без критики, критика без аналитики и соответственно без единой мысли — одни эмоции, преимущественно дамские. Выдвинулся даже тип дамы-критикессы, напомаженной, нарумяненной, в высоких перчатках, хотя и не на очень высоких каблуках — годы, понимаете ли, годы… с изумленным выражением на лице и громкими словами, так, чтобы их слышали: «ну, Галочка, слов нет!», «ну, Катенька, ты сегодня!». Галочка, как все должны понять, — Галина Сергеевна Уланова, с трудом выносившая дам-критикесс, а Катенька — Екатерина Сергеевна Максимова, тогда просто Катя Максимова, дам-критикесс вовсе не замечавшая. А тут еще и Маечка, спутавшая все карты, — сложная пошла жизнь…
 Вадим Гаевский© Кирилл Каллиников / РИА Новости
Вадим Гаевский© Кирилл Каллиников / РИА НовостиИ вот появляются критики совсем другого типа. Образованные искусствоведы, окончившие ЛГИТМиК, или ГИТИС, или даже университет, прекрасно знающие историю отечественного балета и размышляющие о том, куда он идет, понимающие, что балет наш не с Галочки начался и не с Катенькой кончится. А главное, отдающие себе трезвый отчет относительно того, какое место он, отечественный балет, занимает в балетном мире. И какое место в нашем сознании должна занимать и она, балетная критика.
Эта группа профессиональных балетных критиков пришла в прессу тогда, когда сама пресса вновь — после долгого перерыва — стала профессиональной. Когда обозначилось общее оживление не только в узкопрофессиональной, но и в широкой интеллектуальной жизни. Когда советские люди вернули себе право самостоятельно думать. Конечно, все они, мои коллеги, молодые критики, не были интеллектуалами чистой воды; прежде всего, они были театральными людьми во всех увлекательных, но и обязывающих смыслах этого слова. Кто-то из них был непосредственно связан с театром, кто-то — нет, но все жили театральными интересами, самим воздухом театра — любого театра, московского или ленинградского, свердловского или пермского, самой его атмосферой. И тем не менее именно они подняли уровень балетной критики, ее деловой, культурный и общественный статус. Естественно, они увлеченно работали там, где ожила балетная жизнь, но и с не меньшим рвением — там, где за пробуждение балетной жизни приходилось бороться. У них была общая цель: освободить русский балетный театр от всех последствий железного занавеса, вернуть балетный театр в общемировое балетное пространство и сократить отставание, грозящее стать неодолимым. Была и еще одна, более конкретная, даже специальная, цель: дать экспертную оценку и театроведческое обоснование тому, что с блестящим успехом начал делать Мариинский театр и в чем мы действительно были «впереди планеты всей», опережая и Нью-Йорк, и Париж, и Лондон. Я имею в виду научные принципы реставрационной работы, основанные на исторических исследованиях, изучении архивных документов и тщательной расшифровке записей подлинного текста. Выяснилось, что аутентичная классика так же нужна и так же актуальна, как и новейшие дансантные изобретения Форсайта, до того недоступного нашей сцене.
И кто эти критики, обсуждавшие проблему аутентичности и проблему Форсайта?
Я назову семь имен, самых ярких.
Сначала вспомним двух представителей старшего поколения, начинавших в глухие послесталинские годы: ленинградец — поэт и переводчик Поэль Карп и москвичка — историк-балетовед Наталья Чернова. Оба они и в наступившие переломные годы сохранили свой авторитет, свое положение и свою литературную одаренность.
А более молодые — их пятеро: двое из Москвы — Татьяна Кузнецова и Ольга Гердт, двое из Ленинграда — Инна Скляревская и Юлия Яковлева и, наконец, Павел Гершензон, свердловчанин, потом на очень короткое время москвич, теперь петербуржец.
В том же 1993 году, с которого начинается наш отсчет нового времени, в только что созданном РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет) на кафедре истории театра стал работать спецсеминар по балету, где занимались будущие балетные критики, некоторые из них — Варвара Вязовкина, Анна Гордеева, Лейла Гучмазова — успешно начали работать уже через пять-семь лет и до сегодняшнего дня продолжают это нелегкое дело.
Вот они (за исключением Скляревской, на несколько лет уходившей из профессии) и делали всю погоду.
А как и где? Совсем не в единственном специальном журнале «Балет», весьма консервативном — и в выборе тем, и в выборе слов, и в выборе авторов, и даже в своем макете. Так где же?
Существует негласная иерархия жанров в области художественной критики. Самый почитаемый жанр — это, конечно, книга. Самый серьезный — это журнальная статья. А самый живой — это статья в газете. Книг, написанных о балете, в те годы появлялось немного. Великой книгой можно считать одну — изданную в 1987 году книгу Любови Дмитриевны Блок «Классический танец». Она дожидалась издания чуть менее полувека и нисколько не устарела: в балетном мире движение времени проходит замедленно, по своим законам (об этом кратко сказал рано — в 1959 году — погибший Матвей Иофьев, который тоже мог бы написать великую книгу). Ценные книги — академические исследования на историческом материале — издали наши ведущие историки балета: Вера Михайловна Красовская в Петербурге, Елизавета Яковлевна Суриц в Москве. Красовская по-новому трактовала и обобщила уже исследованный круг фактов и проблем, а Суриц вводила в научный оборот почти не исследованные темы. О современном же балете книг почти не писалось. Писались развернутые апологетические и многословные портреты знаменитых премьеров и премьерш, но и этих, отчасти полезных, отчасти сомнительных произведений тоже было — раз-два и обчелся.
Слово — свободное слово — стало инструментом критики, и в который раз оказалось, что этим даром, буквально даром небес, можно успешно распорядиться.
Другое дело — журнальные тексты. Они печатались в театральных журналах: «Московском наблюдателе», номерах, подготовленных молодежной редакцией «Театральной жизни», Петербургском театральном журнале, а иногда — в литературных «Неве» и «Сибири». Вот они-то уже работали на современность. И тут требовался — и достигался — достаточно высокий уровень искусствоведческой мысли, как и столь же высокое качество искусствоведческого языка, не засоренного штампами: омертвелыми штампами, пришедшими из прошлых лет, модными штампами, пришедшими из-за границы. Появилась серия содержательных и талантливо написанных статей, которые с легкой завистью перечитываешь и сегодня. Никакого скепсиса, тем более постмодернистской усмешки — и на свой счет тоже. Ничего от скучающей игры усталого сознания. Поражающая способность довериться обещаниям времени и тому, что — применительно к различным дебютам — называлось «авансом». Авансы раздавались охотно и щедро. О возможных потерях — потерях в плане критической репутации — никто и не думал. Думали о том, как распознать в дебютантских работах будущих мастеров и как увидеть в этих работах намечающееся разнообразие танцевального языка и самостоятельность мысли. Думали о предстоящем расцвете отечественного балета.
Но, конечно, самая интересная, самая интенсивная жизнь протекала в газетах. Сам ритм ежедневной газеты обуславливал и ритм рецензий, появлявшихся там. Отчасти родственный тому ритму, вне которого не существует классический балет, на основе которого существует классический танец. Ритм напряженной, ищущей точного слова мысли, ритм сменяющихся впечатлений, ждущих быстрой оценки. И в нашем, балетно-критическом, цеху появились виртуозы газетных полос, владеющие техникой этого ускоренного ритма. Вообще-то это работа на износ. Долго эта почти каждодневная борьба с ускользающим безжалостным временем длиться не может. Газетные рецензенты уходят из газеты. Тем большего признания заслуживают подвижники, которые многие годы не сходят с дистанции. Не теряя ни формы, ни интереса к предмету своих работ и к самой этой работе. Разумеется, я имею в виду Татьяну Кузнецову.
Балетная рецензия, напечатанная в газете, далекой от искусства, — давняя традиция русской журналистики. В «Биржевых ведомостях» в 1911 году начинал как балетный критик Аким Волынский. Тогда у него не было ни последователей, ни учеников. Теперь они появились — сначала в газете «Сегодня» и «Коммерсанте», потом в «Русском телеграфе». Хотя, в отличие от Волынского, новизна их не страшила. А страшила их ее — этой самой долгожданной новизны — незащищенность.
Подобными опасениями балетная критика живет и сегодня.
Подводя итоги, напомним, что расцвет отечественного балета в самые мрачные 30-е годы объясняется многими причинами, в том числе и той, что балет обходился без слов, а именно слово — и устное, и печатное — стало монопольной собственностью идеологии, ее главным инструментом. А поскольку критика существует только в слове, то подобное же обстоятельство определило постепенный упадок, существовавший в блистательной русской балетоведческой школе, созданной тем же Акимом Волынским, Андреем Левинсоном, Иваном Соллертинским, Любовью Блок, Федором Лопуховым. Когда же слово освободилось от идеологии, балетная критика — как и вся театральная критика, фактически уничтоженная в конце сталинской эпохи, — начала возвращать утраченные позиции. Но теперь слово — свободное слово — стало инструментом самой этой критики, и в который раз оказалось, что этим даром, буквально даром небес, можно успешно распорядиться.
* * *
От составителей
Павел Гершензон, Богдан Королек
Второй том антологии «Новая русская музыкальная критика. 1993—2003» посвящен событиям в российских академических балетных компаниях и — внимание — в сфере отечественного contemporary dance.
После долгих споров этот том было решено назвать все-таки «Балет». С тем же успехом он мог называться и «Танец» — количество букв совпадает в обоих словах, с дизайном обложки не пришлось бы мучиться. Проблема в другом. Для краткости приведем цитату из фейсбука Ольги Гердт, одного из авторов тома и пользователя берлинской синематеки Amerika Gedenkbibliothek:
«…И все было очень удобно, пока в библиотеке не случился большой ремонт с соответствующими усовершенствованиями.
Как же я удивилась, когда увидела, что хореографию перестали делить на “балет” и “танец”, а объединили одним общим словом. Каким бы вы думали? Нет, не “балет” — так было бы в России, где до сих пор все, что движется, — это “балет”, хоть кол на голове теши. Тут все теперь (в синематеке Amerika Gedenkbibliothek. — Прим. сост.) — от модерна до постмодерна, от балета до современного танца, от физического театра до буто, от Пины Бауш до Мариуса Петипа — все-все-все называется теперь — “Tanztheater”. И не потому, я думаю, что направление “танцтеатр” создали немцы, а потому что работники библиотеки думают, что все, что танцуют в театрах, — это “танцтеатр”. Логично ведь, нихт вар?
Как же я сегодня ругалась, когда, маркированные как “танцтеатр”, на меня с полок валились Щелкунчики, фламенки и Фридрихштадтпаластбалеты!»
 Павел Гершензон© Евгений Гурко
Павел Гершензон© Евгений ГуркоОсобенности национального сознания в России таковы, что прочным, надежным и заслуживающим доверия почитается лишь носитель официально апробированного и предусмотренного ГОСТом технологического названия. Скажем, «Консерватория-балет» звучит подозрительно, а вот «Балетная труппа Театра оперы и балета Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова» — совсем другое дело. И если балет одобрен государством как идеологически важнейшее искусство, средство воспитания, инструмент дипломатии, то любое местное начинание, от премьеры в бывшем Императорском театре до сомнительного перформанса на бывшей гуталиновой фабрике, будет венчать себя гордым наименованием «балет». У постановщиков срабатывает инстинкт самосохранения (существование вне традиционной жанровой иерархии небезопасно), у зрителей — потребность в комфорте (поиск знакомой дефиниции для незнакомого названия в афише). На крайний случай предусмотрена система условных знаков родом из застойных времен: модерн-балет, необалет, антибалет, балет-шмалет — в эти формулировки легко укладывается любая пластическая ересь.
Собственно, речь о том, что в нашей стране до сих пор не осознана разница между двумя антагонистичными явлениями (в европейской практике эта разница явлена в наличии двух понятий — ballet и dance), и название тома есть дань ментальным особенностям восприятия и мышления российского зрителя (и читателя). Да будет так: все, что в России движется, да придет под одну обложку и назовется балетом — даром что половина спектаклей, описанных ниже, никак не связана с пятью выворотными позициями ног, шестью port de bras и восемью годами сурового профессионального образования.
 Богдан Королек© Дягилевский фестиваль
Богдан Королек© Дягилевский фестивальИсторико-культурный контекст проекта «Новая русская музыкальная критика» подробно описан в статье «От составителей» в первом (оперном) томе. Поясним, по какому принципу формировался корпус текстов во втором.
Большинство статей по-прежнему посвящено премьерам. На каждую — до трех текстов, по возможности контрастных. Исключение сделано для событий, вызвавших наибольший резонанс и ставших ключевыми пунктами в формировании нового русского балетного театра: таковы, на наш взгляд, премьеры реконструированной «Спящей красавицы» в Мариинском театре (1999), «Дочери фараона» в Большом (2000), программы балетов Баланчина в Мариинском и Большом театрах, а также Форсайта в Мариинском (2004).
Важность программ Баланчина и Форсайта, понимание их символической и структурообразующей роли в судьбе русского балета заставили нас расширить хронологические рамки балетного тома и — в качестве приложения — добавить отдельные статьи 2004—2005 годов, посвященные столетию Баланчина в России и премьере балетов Форсайта в Мариинском театре. Эта премьера, по нашему мнению, и стала конечным пунктом всего хаотического коллективного движения в русском балетном театре 1990-х годов. Аналогичным событием в оперном театре был черняковский «Китеж».
По сравнению с «Оперой» в «Балет» включены новые группы текстов, предметом которых стали:
1) Спектакли в программе фестиваля «Золотая маска». С появлением Национальной театральной премии столичная критика получила возможность более или менее полно описывать хореографическую картину русского танцевально-балетного мира, не выбираясь за пределы Бульварного кольца (исключение составлял Мариинский театр, куда московский десант вынужден был высаживаться регулярно). Благодаря «Маске» сложилась уникальная ситуация, когда, к примеру, отрецензированные год назад петербургские спектакли подвергались повторной экзекуции на «масочных» показах — и результат подчас оказывался противоположным. Здесь необходимо помнить о мифологическом противостоянии «Москва-купеческая vs Твой-строгий-стройный-вид», следы которого видны в текстах и которое составляет устойчивый скрытый сюжет балетной критики девяностых — начала нулевых.
2) Гастроли зарубежных трупп — наиболее результативные в художественном отношении, важные в историческом и геополитическом контексте; гастроли, бывшие сигналами точного мирового времени для отечественных балетных институций, — например, первый с легендарных гастролей 1972 года визит баланчинского New York City Ballet в Мариинский театр (2003). В сравнении с оперной епархией в балете такие гастроли случались регулярнее и оказывали неизмеримо большее влияние на неокрепшие умы аборигенов.
3) Юбилеи — программные тексты, посвященные титульным персонажам советского балета и тесно связанные с темой окончания советской эпохи. В антологии представлены три фигуры: Марина Семенова, Ольга Лепешинская и Майя Плисецкая. Семенова успела за период 1993—2005 гг. отметить круглую дату дважды, Плисецкая — трижды.
4) Политическая ситуация — говоря о балете в бывших Императорских театрах (неизменно объект высочайшего кураторства), нельзя обойти программные тексты балетных критиков на тему «искусство и власть»: речь, прежде всего, о внутриполитических ситуациях в Большом и Мариинском театрах.
Наконец, в томе представлены единичные образцы жанров, ныне покойных, но процветавших в период критического Sturm und Drang'а: мнения о премьере и хроники сезона (тексты произвольного формата, специально написанные для газеты «Мариинский театр»), обзоры спектаклей, итоги балетного сезона.
Перед нами практически постпостмодернистский роман в жанре ready-made с тьмой второстепенных персонажей и локальными курьезами.
По логике вещей, балетный том следовало плотно напичкать отчетами о местных дебютах и рецензиями на гастроли иноземных этуалей-одиночек. Интерпретации затертых до дыр и выученных дотошными балетоманами наизусть текстов составляют едва ли не важнейшую интригу классического балетного театра. Смогла ли иноземная балерина X прочувствовать духовное наполнение партии Одетты-Одиллии? Кто репетировал с Y — у нее же совсем не те руки в начале вариации. Погрузневший Z уже недостаточно хорош в прыжковой вариации «Корсара», хотя до сих пор отменно вертит grand pirouette в средней части, — и так до бесконечности. В конце концов, balletomania есть преклонение не перед хореографическим текстом и не перед театральным спектаклем вовсе, а перед Балериной/Балеруном (как все-таки удобно устроено в итальянском языке: Prima Ballerina — это Она, Primo Ballerino — Он; крики «Brava!» предназначены Ей, «Bravo!» — Ему, «Bravi!» — всей труппе). Объектом жесточайшего судейства, виртуальных перепалок и реального мордобоя может стать любой их сценический вздох. Ввиду жестко ограниченного объема и необходимости сосредоточиться на других, не менее важных, сюжетах буйного десятилетия в книгу вошли тексты только о двух дебютах — Ульяны Лопаткиной и Дианы Вишневой. Компанию им смогла составить одна Анастасия Волочкова — правда, в ином ракурсе. И это тоже знак лихих девяностых.
Итоговый состав отобранных текстов может показаться набором случайных morceaux, написанных ночью, в истерике, с претенциозными заявками и несогласованными предложениями. Мы, однако, надеемся, что в данном томе можно обнаружить сложно устроенное повествование — перед нами практически постпостмодернистский роман в жанре ready-made с тьмой второстепенных персонажей и локальными курьезами (хроникерская однодневка неожиданно взрывается атомным грибом).
Легко составить список основных действующих лиц — он на поверхности — и обнаружить в числе первых Бориса Эйфмана (наиболее частые творческие акты), Алексея Ратманского (эпизод «Новая надежда»), Евгения Панфилова и Татьяну Баганову (пышное цветение уральского contemporary dance), а также Юрия Николаевича Григоровича — почетного monstre sacré девяностых.
Важнейшие сюжетные линии залегают глубже. О двух, условно обозначенных нами как «Баланчин и мы» и «Форсайт и мы», говорилось выше. Третья — язык и его эволюция, что с точки зрения постпостмодернистской литературы и является истинным сюжетом.
Балетные рецензии (возможно, даже нагляднее оперных) демонстрируют, как формировался новый критический лексикон и как искалось оптимальное соотношение в тексте причудливой беллетристики и сухой информации. Нам казалось важным показать разницу между традиционной позднесоветской манерой письма и стремительно набирающим очки Ъ-style. Оба критических модуса не существовали автономно — новая русская критика есть результат их длительного сожительства.
И вот еще один сюжет: в 1990-е годы отечественные писатели о балете (ballet) совершили профессиональный подвиг, начав параллельно писать о современном танце (dance). В чем героизм? Проблема в прерванной традиции: дело в том, что последние фундаментальные тексты о современном танце, написанные по-русски, принадлежат Андрею Левинсону и датируются 1913—1917 годами (Изадора Дункан, Жак-Далькроз, наконец, «Фавн» и «Весна священная» Нижинского) — дальше Левинсон писал о танце уже по-французски. Критики 1990-х, воспитанные непрерывной линией рефлексии классической хореографии (Волынский — Левинсон — Блок — Слонимский — Красовская — Гаевский), впали в ступор: на них уставилось чудище обло, огромно, озорно, стозевно и лаяй. Под рукой не оказалось ни одного привычного костыля: ни жесткой классификации па, ни знакомых структурных форм, ни линейно развивающегося сюжета. Игнорировать русский «контемп» становилось невозможно, в равной степени невозможно было нарушать редакционный дедлайн, так что искать адекватные формулировки приходилось на полном ходу. Фактически в рамках данного тома предпринят первый опыт презентации российской критической мысли об отечественном танцтеатре.
Остается уведомить читателя, что настоящее издание не претендует на всеохватность и тем более объективность. Это наш личный взгляд на танцевальные процессы в России 1993—2003 гг. Свод критических текстов о балете и танце за отчетный период мог быть другим, и этот том не претендует на почетное звание истории, которая пишется один раз. Мы будем рады появлению альтернативных исследований.
Понравился материал? Помоги сайту!
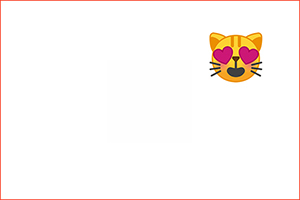 Молодая Россия
Молодая Россия









































