 Искусство
ИскусствоЕе Африка
Виктория Ивлева и Евгений Березнер — о новой выставке, войне, расизме и о том, что четвертой стены не бывает
15 апреля 2021219Лакан утверждал, что буква первична, ибо, прежде чем понятие может возникнуть, должен существовать символ, способный его означить. Если опираться на эту концепцию, то текст Хельги Ольшванг погружает читателя в самые сокрытые и сокровенные дебри сознания, туда, где психолингвистическое сырье становится языком, а затем осмысленной (и выстраданной) речью. Ольшванг проделывает на бумаге — на свету — часть той предварительной, темной работы, которую все пишущие проделывают в уме, вынося на страницу не только «выпрямительный вдох», но и все «два, три, а то и четыре задыхания». Таким образом, она обнажает саму анатомию письма, сам процесс «появления ткани», образования формы стиха через процесс усечения, а не нарастания смыслов.
Цикл стихов, собранных Ольшванг в книгу «Голубое это белое», формируется в плотную ткань, corpus, ТЕЛО. Тут невозможно избежать ассоциации с «телом без органов» Делёза, ибо на всем пространстве цикла идет бесконечная дифференциация материи в процессе ее появления-оформления. (Сразу же ассоциативно возникают и развиваются на клеточном уровне текста тельца кровяные, пещеристые, тела астральные, небесные, геометрические и т.д.) Сначала возникает поток речевой и поток сознания. Без прелюдий, без нарастания, а сразу, с первой строки, стих разгоняется, подхватывает и затягивает в захлебывающуюся скороговорку, вероятно, миметически повторяя внезапное и мгновенное погружение автора в состояние, толкнувшее на написание цикла. Смысл нащупывается словом по мере того, как нечто, не подлежащее огласке, проговаривается. Немного сбивчивый, сквозной синтаксис делает смысл не менее подвижным, зыбким, неустоявшимся, как бы еще не застывшим и меняющимся в зависимости от того, как мысленно расставить зачастую отсутствующую пунктуацию, где переломить строку или перевести дыхание, — «нора в кулак» / «в кулак любви зажатый край»; «унести и выдержать» / «выдержать за зубами»; «унести ноги» / «ноги в руки» — как в «Незнайке» из нашего общего детства: «казнить нельзя помиловать». Трудный, неоднозначный смысл зависит от расстановки знаков, и не только препинания — здесь идет семиотическое «означивание», прямо по Лакану. Скороговорка — только бы не остановиться, не упустить нить! — еще служит и акселерации динамики внутри стиха, разворачивающегося со скоростью мысли, то есть является формальным приемом. Получается письмо почти телеграфическим пунктиром, где смысл как бы нарезается — винтовой резьбой — по ассоциативно-аллитеративной спирали: «валуны, вороны», «быстрая бездна голубизна» или «зарево, дерево, взрывы». Тут каждое последующее слово стремится не только эмоциональной «нотой выше», по слову Бродского, а в процессе развития/дифференцирования создаваемой субтильной материи — дальше.
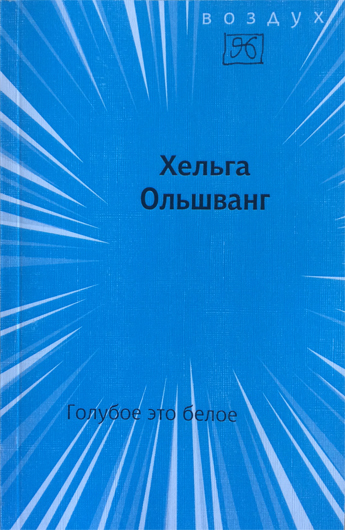 © Книжное обозрение (АРГО-Риск), 2016
© Книжное обозрение (АРГО-Риск), 2016Раз уж я упомянула отзыв Бродского о «Новогоднем», добавлю, что невозможно не отметить, что интонационно этот цикл восходит к «Поэме Горы» и «Поэме Конца». Ольшванг в нем умело пользуется атрибутами цветаевской (общеженской?) любовной лирики: живот = жизнь (у Ольшванг «положив руку на живот» несет смысловые отголоски фразеологизмов «положа руку на сердце» и «наложив на себя руки»), мост, отсылающий к цветаевскому «мост — сплошное мимо», цветаевское «жив только бок, о смежный теснюсь которым», превратившееся у Ольшванг в «на бок-о-бок ты я ляг и спим» и т.д. Только это Цветаева, пишущая после Драгомощенко! (По аналогии с идеей Малькольма Джонса о том, что «Достоевский после Бахтина» суть иное явление.) Цветаева в дневниках писала: «Описывать, т.е. вторично давать вещь уже существующую, бессмысленно, надо сказать, дать вещь изнутри»! В стихах Ольшванг все сказано или, по крайней мере, проговорено и означено, но ничего не названо, не описано, т.е. все дано изнутри события. О самом событии — о душевной революции — можно догадаться только по его последствиям; несмотря на несколько отсылок к революционным образам из Эйзенштейна и Делакруа, Ольшванг дает портрет внутреннего переворота изнутри его эпицентра. Даже больше: здесь запечатлена внутренняя засвеченность, опаленность, спроектированная на языковое пространство и едва лишь выдаваемая контурами стихотворений, — стихи-Плащаница!
В этих стихах множество технических находок — игры слов, уже упомянутых семантических стяжек и замечательных аллитераций, как, например, «плыли бы так, бесплатно» или «земля прильнет» (сколько женственной ласки и тоски по ней в этих смягченных «л»!), «мел и слякоть», звучащих как всхлип, и фонемических, чисто слуховых ассоциаций («blue, blue»), звучащих признанием (нечто от набоковского «yellow-blue vase»). Есть и чудные, отдельно стоящие строки-моностихи: «пусть я вытерплю сейчас любить», «из горя некуда видеть», «сияние в оба».
Но было бы поверхностно и неверно счесть «Голубое это белое» за образец любовной лирики, так как это топологические изыскания, исследование скрытых карманов и изворотов очевидной поверхности и выявление новых пространств, пределов, границ и возможностей, открывшихся расширенному после душевного переворота сознанию, то есть воспроизведение, воссоздание новых очертаний персональной вселенной посредством засланного в нее — пробой — Слова. Как в любой космогонии, акт мифотворчества и акт творения, осуществленного посредством Слова, тождественны. Едва возникшая вселенная-парадигма заселяется существами бесполыми/двуполыми, сквозными и взаимопроникающими. Страдания и наслаждения объединены в одно понятие, как в античном «пафосе». Твари возникают, получая названия, и тут же становятся тотемическими: «и твой зверь и птица моя», «вот он тот зверь о ком». Предметы вырисовываются, понятия и координаты обозначаются. И эта не трехмерная, обжитая вселенная, а трудное, анахронистическое, сквозь себя прорастающее пространство, подобно ленте Мёбиуса, оказавшееся своей же изнанкой. Сам Творец, то есть творящий Голос, оказывается своим объектом и субъектом одновременно, по-набоковски перемигиваясь со своими творениями. (В заключительном стихотворении книги «...в самой глотке дверца, колышется за только что ушедшим» творящий Голос узнает и осознает себя со стороны.) Kосмогония Ольшванг ближе всего орфической теогонии. Недаром автор несколько раз упоминает оперу «Орфей», звучащую эмоциональным фоном в ее оперном сезоне... Eе «зверь о ком» не блаженно-слитой, двуспинный, четырехногий гермафродит из «Симпозиума» Платона, а изначально и первично мужеженский зверечеловекобог, демиург-парадигма Фанет, несущий в себе все возможные начала, включая «умопостижимый свет», и возникший из мирового яйца ДО творения и как его условие, Фанет, которому, по Проклу, «присуще единичное и нерасторжимое знание обо всем сразу».
Еще один важный элемент орфической мистерии — это перерождение через травму, переход из одной инкарнации в другую посредством перемены пола, кастрации, расщепления, расчленения, рассеивания, опьянения (т.е. измененного сознания). В воплощении Диониса Загрея Орфей — бог теургий и превращений. Дионис, превратившийся в девушку, чтобы спрятаться от титанов, обнаружен ими с помощью зеркала, разорван на части, сожран и исторгнут. Но из этого пепла и отходов возникают бесчисленные новые инкарнации Диониса плюс весь род человеческий! То есть тут налицо очевидная неадекватность и ветхость смертной плоти, невозможность отдельного тела вместить Сущность и ее назначение. Ольшванг именно это, а не механику любовного соития, имеет в виду, когда пишет о «попытке тела в тело впасть». Это о попытке освободиться от тирании пола, о попытке проникновения одной закрытой системы в другую. Это о сложности преодоления феноменологического одиночества и догадка о том, что соприкоснуться сущностями через эту мембрану отдельности можно только посредством разрыва, прорыва, разреза, то есть сотворения нового пространства в себе — творения через вивисекцию, расчленение и сочленение разрозненных частей в новые комбинации и инкарнации этих Сущностей. На протяжении всей книги у Ольшванг мелькают хирургические и лабораторные атрибуты — склянки, пробирки, острия; «предрассветный мир» у нее «пахнет спиртом», будто стерилизованный, готовый к операции, по ходу которой он будет вскрыт и перекроен. Тут ахиллесово сухожилие уязвимости сшивается с сердечной мышцей.
Игра Ольшванг с местоимениями блестяще передает пульсацию этой сквозной, бесплотной (supra-плотной), бесполoй (двуполой, многополой), видоизменяющейся и взаимоперетекающей субстанции, складывающейся в разные варианты себя, вычисляющей свои границы и нащупывающей свою (временную) форму. Автору (творящему Голосу) удается отстраненное, отвлеченное удивление тому, что после всех потрясений и изменений, после расширения внутреннего пространства и сознания, вместившего другую Сущность, иного местоимения, нежели «я», для этого нового существа в языке не нашлось! Обнажается несоразмерность события и внешних последствий. «Я» превращается в условность. Ольшванг употребляет «я» в третьем лице («Я в себя вберет»), использует «я» и «ты» как взаимозаменимые понятия («ты не сплю»), прибегает к собирательному, коллективному «я», одному на двоих, и т.д. Тут уже упомянутый уход из тесных тел и обозначающих их местоимений, но также и уход из конкретики места и времени, эти тела вмещающих, уход из трехмерного пространства, ограничивающего диапазон возможных ощущений и переживаний. За редкими исключениями, скажем, одного-двух узнаваемо калифорнийских пейзажей и вкраплений названий нью-йоркских улиц (которые, с учетом спланированного квадратами Манхэттена, являются здесь системой зашифрованных координат и символизируют точки пересечения осевых линий и векторов, выполняя метафорическую функцию помимо топонимической) у Ольшванг нет топонимов и хронотопов, помогающих сориентироваться в стихотворных времени и пространстве. Безвременье и схематичность пейзажа делают их архетипичными и переносят в категорию платоновских абсолютных форм. Ее города не имеют конкретных названий, это Города, Города-Комнаты, ее лес — это Лес (своим невидимым и вездесущим присутствием-давлением напоминающий Лес у Стругацких), а озеро — это Озеро-Зеркало (зеркало Диониса?), обеспечивающее сношения внутреннего мира с внешним (та же «нора в кулак»): «там я сижу под рыбами в трюмо на самом деле» или «условимся что эта рябь и есть дно озера — возьмем ее за дно, основу, низ, и зренье переправим». Весь физический, материальный мир является декорацией (оперной!), на фоне которой разворачиваются катаклизмы внутренних событий, декорацией, позволяющей формально привязать метапространство стиха к каким-либо осязаемым признакам реальности и существования автора в ней: «нас нет, но растекается раствор по тверди лиц», «плоды труда, трехмерные на вид», «мир, звякающий в такт судорогам». Больше того: внутри закрытой системы, обусловленной этим разросшимся «я», атрибуты внешнего пейзажа приобретают сугубо личный, не метафорический, а семиотический характер, и означивание переходит в шифрование: «Помню заглавные буквы деревьев».
Выход за пределы себя, реальности, плотности, эмоциональной банальности, любой сковывающей формы, распад материи, выпад в Хаос (но Хаос созидательный, пластический, в котором творение становится возможным) не могут быть осуществлены упорядоченным формальным стихом (в нескольких местах Ольшванг обращается к метрономy метрики иронично, как к олицетворению обыденности). Стихи Ольшванг написаны размашистым верлибром, в котором паузы и неожиданные анжамбеманы подчеркивают смысловую нагрузку отдельных слов, а непредсказуемо, но органично расставленные (или возникшие?) внутренние, частичные и ассонансные рифмы создают формообразующее натяжение/напряжение. Но основная, стихийная, взрывная сила этих стихов — в движущем/несущем их, динамичном, предельно раскрепощенном синтаксисе. Архитектоника стихов визуально воспроизводит этот эффект, разгоняя и растягивая некоторые строфы до последнего предела дыхания и доводя до края страницы, а некоторые сужая до одного слова и делая гравитационной составляющей:
разворачивается ладонь понемногу из кулака из тела
обширный пустой потолок возникает
возник
Тут приходится вспомнить, что y топологической поверхности края нет, есть только сгиб, перетяжка, пространственный эквивалент переведенного дыхания.
Изначально книга называлась «Книга о краях», и, возможно, это название нужно иметь в виду, чтобы правильно читать «Голубое это белое», ибо этот цикл существует в пространстве, созданном натяжением между абсолютной выхолощенностью и абсолютной заполненностью, между стремлением «к» и стремлением «от» («молчу тебе навстречу»), между тягой к разрушению/расчленению и стремлением к созиданию/(со)творению, то есть движением одновременно центробежным и центростремительным, по принципу расширяющейся/сжимающейся Вселенной, где Край и Центр суть одно и то же, где Край есть Центр, отодвинутый на умозрительное расстояние. Именно на этом расстоянии свет становится «умопостижимым».
Хельга Ольшванг. Голубое это белое. — М.: Книжное обозрение (АРГО-Риск), 2016. 96 с. Книжный проект журнала «Воздух», вып. 76.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Искусство
ИскусствоВиктория Ивлева и Евгений Березнер — о новой выставке, войне, расизме и о том, что четвертой стены не бывает
15 апреля 2021219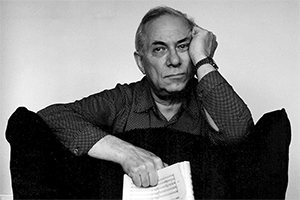 Академическая музыка
Академическая музыка Общество
ОбществоКак работает «Команда 29», которая занята юридическим отстаиванием права граждан на доступ к госархивам, а теперь и делами о государственной измене
14 апреля 2021277 Искусство
Искусство Искусство
Искусство Современная музыка
Современная музыкаИгорь Журавлев, Инна Желанная и Сергей Старостин — о международном прорыве «Альянса» и опередившем время альбоме «Сделано в белом»
12 апреля 2021267 Общество
Общество Современная музыка
Современная музыка«Не только про космос»: премьера саундтрека к «Космическому рейсу», первому советскому фильму о полете к звездам, от московской дрим-поп-группы
12 апреля 2021134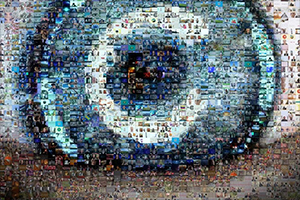 Кино
Кино She is an expert
She is an expert Современная музыка
Современная музыкаСамобытная рок-группа представляет анимационный мюзикл об изобретении речи зверьми
9 апреля 20212669 Общество
ОбществоЛекция известного немецкого исследователя России на Вторых чтениях памяти Арсения Рогинского: как меняют сегодня работу ученых «войны памяти»?
8 апреля 2021125