 Современная музыка
Современная музыкаDvanov. «Гиперпустырь»
Городские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы
25 ноября 20211589 © «Новое литературное обозрение»
© «Новое литературное обозрение»В серии «Новая поэзия» издательства «Новое литературное обозрение» готовится к выходу книга стихов Константина Шавловского «То, о чем следовало рассказать с самого начала». Предисловие к ней написал Станислав Львовский, и его текст выходит далеко за рамки служебного, в общем, жанра — он о времени, нашем времени здесь и сейчас и неотвратимо наступающем непрозрачном будущем, а еще о том, как в этом «здесь и сейчас» выживает речь. Мы публикуем предисловие и поэтический цикл из книги.
Эта книга стихов выходит в свет осенью 2021 года. Предисловие к ней я заканчиваю в конце мая. И несмотря на все, что произошло весной и будет происходить летом, а потом и осенью 2021 года, — это, видимо, довольно обычный год. Такие годы упоминаются в книгах — серьезных и не очень, — но редко, почти никогда, не попадают в заглавия этих книг. В заглавия попадают годы, в которые случается что-нибудь важное: начинается или заканчивается война («Август Четырнадцатого»), случается революция («Девяносто третий год») или, в крайнем случае, Гонконг формально переходит под власть КНР («2046», и это вообще кино).
Поэзия, конечно, тоже интересуется Важными Датами, но — по крайней мере, в наши дни — меньше, чем проза или кинематограф. На вопрос, почему это так, можно отвечать разными способами, но, скорее всего, дело не в том, что поэзия не интересуется временем. Просто она интересуется им иначе — точнее, даже не им, а тем, как оно проходит. И тем, что происходит в то время, пока время идет. «То, о чем следовало рассказать с самого начала» Константина Шавловского — это книга о том, как идет время, — и обо всем, что с ними (с автором и со временем) происходит на ходу. Или, если попробовать зайти чуть с другой стороны, — вот как иногда говорят: по ходу действия происходит то-то и то-то. А «То, о чем следовало рассказать с самого начала» — это книга, для которой основной предмет интереса — как раз сам ход действия. Намеренно или нет, но эта книга, написанная за последние — сколько? — десять-двенадцать лет, наверное, — выстроена так, что она оказывается книгой о времени, в течение которого она пишется. Что значит «о времени»? Это не о том времени, которое «времена» (нынешние, прежние, тяжелые, счастливые), — а о том времени, сквозь которое живет автор, а с ним — по-разному с разной скоростью — и мы все. Или нет, так как-то широковато получается — лучше просто мы, какая-то часть нас.
Что это за время? Наверное, для него потом найдутся какие-то слова: они довольно часто, почти всегда, post factum находятся. Но это будет потом — а сейчас сойтись, наверное, получится на том, что десять-двенадцать лет, которые проходят в этой книге (и уже прошли вне ее), — они вряд ли были лучшим из времен и весной надежд. Конечно, это не было и худшее из времен, но в каждой его точке впереди у нас (было) не так уж много. Чуть не самым ценным умением оказалась для этих лет компартментализация: здесь у нас «город в солнце и случайные сады» — а здесь аресты. Здесь каждую неделю открываются выставки и происходят очередные чтения — а здесь до смерти забивают человека в камере. Здесь ярмарка non/fiction, а здесь — пять лет общего режима. Компартментализация — название для того, что позволяет в такие времена поддерживать равновесие, пусть неустойчивое, но достаточное (впрочем, только-только) для того, чтобы идти — если и не вперед, то хотя бы в каком-нибудь направлении. Чем дальше, тем больше внимания — или, наоборот, невнимания — это равновесие требует; чем дальше, тем больше его поддержание отнимает сил и времени жизни. Но вот так взять и прекратить его — очень трудно, а иногда даже кажется, что и совсем невозможно.
* * *
Историй о нашем мире, как известно, всего четыре. Но вещей в мире много, и все эти многочисленные вещи мира — разные: одни сильные, другие слабые, а третьи — где-то посередине. Поэзия (конечно же) принадлежит к числу вещей слабых — а то и вовсе бессильных. В январе 1939 года Уистен Хью Оден пересекает на корабле Атлантику, чтобы поселиться в Нью-Йорке, — и начинает обживаться в новом состоянии — если не перемещенного, то переместившегося лица; в состоянии — как это называл один философ — беспочвенности. Старший товарищ, подружившийся с Оденом, когда тому еще не было и двадцати, предостерегал его от эмиграции: есть особая опасность для поэта в том, чтобы лишиться корней. Оден отвечал, что его отъезд в США как раз и есть сознательная попытка научиться жить такой — неукорененной — жизнью. В апреле того же тридцать девятого года в «Лондонском Меркурии» выходит более или менее окончательный, то есть трех-, а не двухчастный, вариант элегии «Памяти У.Б. Йейтса». И по крайней мере одна строка из этой новой, добавленной Оденом, части до сих пор заметно тревожит изрядную часть людей, которые, как они (мы) сами часто говорят, занимаются поэзией — а на самом деле, конечно, пишут стихи.
Если бы мы жили в идеальном мире, книга, которую вы держите сейчас в руках, так и называлась бы: «Poetry makes nothing happen». Эта (вырванная из контекста) констатация — что-то вроде цепной реакции в камере токамака, расположенного (не очень глубоко) под поверхностью «Того, о чем следовало рассказать с самого начала»: магнитное поле как-то удерживает ее, эту констатацию, внутри — но только-только: запас прочности очевидно невелик. Эмоциональная текстура книги при этом довольно далека от «левой меланхолии», о которой много говорят и пишут в последние примерно двадцать лет. Она не то чтобы совсем отсутствует в книге, но в этих текстах меланхолия скорее обозначена, чем жива: «мечты об оргиях стали оргиями / шоколадные вафли / берлинским клубом / а революция / свистулькой прилипшей к губе / ни проглотить ни плюнуть». Книга «То, о чем следовало рассказать с самого начала» сложена из более разнообразных, амальгамированных друг с другом пластов злости, непонимания, досады, потерянности, одиночества, angst и просто печали — все это здесь есть. Все — кроме собственно меланхолии (или вот еще слово: acedia); все — кроме усталого безразличия.
Еще одна вещь, зримо отсутствующая в текстах Шавловского, — упомянутая выше компартментализация. Отсутствие ее — не органическое свойство субъекта речи, а результат сознательного усилия, намеренного отказа от разделения потоков жизни, от разгораживания проживаемого ландшафта, который поддерживается в состоянии, не совсем, конечно, беспрепятственно проницаемом (пересеченная все же местность), но в каком-то таком вечно полураспахнутом, продуваемом большими и малыми сквозняками. Проницаемость (но не прозрачность), преодолимость (но не гомогенность) — те самые состояния (свойства?), поддержание которых сопряжено с довольно высоким — честно сказать, с запретительно высоким, как правило, — уровнем издержек самого разного рода. Но здесь это усилие, очевидно, имеет высокий приоритет — хотя бы потому, что оно (усилие) предъявляется самой первой строфой первого текста книги: «мы живем в россии / состоящей из снега и пыток / гостеприимства и пыток / книжных магазинов и пыток» («Мы живем в России»).
Здесь, в этой россии, «федя с другом артемом» приезжают кататься на сноубордах «на новый зимний курорт / построенный братьями ковальчуками», а потом «пьют свое пиво / обсуждая кино пытки настольные игры». Здесь рождественская служба — одно со службой исполнения наказаний, «я/мы» превращается в только что вырытые ямы, «животные сворачиваются в зверей», а «вронский дает признательные показания» — и так далее, до самого конца книги. Когда жизнь проницаема, оказывается, что спрятаться особенно негде, — и время проживается в постоянном присутствии мучимого (и мучающегося) другого, в ситуации постоянной опасности, связанной с вторжением в жизнь насилия, причем совсем не обязательно исходящего извне. Обитателю такой жизни — проницаемой по свободному выбору и в результате сознательно прилагаемого усилия — ему из каких-то самых общих соображений о справедливости положено, конечно, что-нибудь хорошее за совершаемую им поэтическую работу. Пусть даже апофатически — «не бессмысленно», «не совсем бесполезно», «хотя бы так». Но ничего такого не происходит, а происходит только необходимость как-то ответить себе самому на вопрос о том, может ли поэзия заставить происходить — хоть что-нибудь.
Оден, только обживающийся у себя на Бруклин-Хайтс, отвечает на этот вопрос с того берега, из весны 1939 года, — отрицательно. Но это только часть ответа — предназначавшегося в конце тридцатых в том числе европейским левым, которым он, как известно, сочувствовал — иногда деятельно. Ничего в мире не происходит из-за поэзии — и утилитаристские моральные соображения не могут быть основанием для подчинения ее той или иной политической необходимости. Слабые вещи бессильны, их инструментализация невозможна, они бесполезны для морального действия. Другая часть ответа обнаруживается в конце той же оденовской строфы. Поэзия — не способ сделать так, чтобы что-нибудь происходило. Она — «то, что остается в живых» и одновременно — «то, посредством чего происходит происходящее, уста» («…it survives, / A way of happening. A mouth»). Но одновременно обе части этого ответа — признание и констатация сути наступающих новых времен: речь в них будет идти не о преобразовании старого мира, но о выживании — и человека, и самой речи.
События происходят сами по себе, но живут (выживают), только будучи рассказанными, только как речь. Речь превращает события в историю, поэзия превращает речь в свидетельство о человеке. Перед вами одно из таких свидетельств, и это свидетельство о тех десяти (или двенадцати?) годах, когда непрозрачный горизонт будущего придвигался (придвигается) к человеку, написавшему эту книгу, — и к нам — все ближе; видимость в это время продолжает ухудшаться. Попытки вглядываться в непрозрачное будущее, предпринимаемые в отсутствие поэзии, ничем не заканчиваются — новые слова, без которых заглянуть за горизонт невозможно, едва начинают появляться. Нет их и в этой книге. Но из нее они когда-нибудь могут появиться: необходимый первый шаг к тому, чтобы они появились, — отказ от прежних слов, на глазах теряющих значение, и готовность прямо говорить о своих непонимании, ужасе, фрустрации от невозможности что-либо изменить, о страхе от отсутствия сколько-нибудь понятной стратегии (да что там, и тактики) взаимодействия с темным будущим.
Стихи, образующие эту книгу, свидетельствуют состояние человека, который лишается своего места. На протяжении этой книги, по ходу ее движения, ее поэтический субъект, начав с отказа от компартментализации событий, продолжает движение к отказу от попыток адаптации к предстоящему прежних словарей и режимов речи. Горечь от того, что поэзия не может ничего заставить происходить, вынуждает пишущего к медленному, очевидно неохотному отступлению с авансцены, пустота которой заполняется самой речью — которая получает таким образом возможность происходить. По ходу действия книги из предъявляемого ею мира постепенно, но последовательно исчезают несущие элементы устаревших режимов речи и объяснительных конструкций: если в начале одним из источников внутренней динамики является, помимо прочего, сопоставление свободного стиха то ли с фольклорными, то ли с «детскими» регулярными размерами вроде отсылающего к Маршаку четырехстопного хорея — «только руки убери / выйдет мама из двери / машет крыльями и плачет / больше нет меня внутри», — то уже к середине книги метризованные фрагменты почти исчезают. Однако и свободный стих, ко второй трети сборника вроде бы утверждающийся в качестве основного способа авторской речи, вскоре начинает распадаться на отдельные реплики, а иногда и фонемы.
Своего рода ключ, авторское описание происходящей поэтической эволюции обнаруживается, кажется, в последовательности заголовков цикла «Экономика речи»: Шизофазия, Глоссолалия и Эхолалия. Этот ряд прямо называет стадии, которые проходит поэтический субъект: от шизофазии дробящихся, рассыпающихся смыслов, помещенных поначалу в сравнительно привычные формы, — к глоссолалии, где от речи остаются уже только ритмические и слоговые структуры, — и далее, к ситуации невозможности никакой собственной речи, когда сохраняется только возможность повторения и иногда рекомбинации слов, выхваченных из окружающего пространства.
Важно, что мы говорим не о раз навсегда принятом и последовательно исполняемом решении — скорее, о постепенной интернализации логики событий жизни и речи и одновременной ее постепенной экстернализации в текст. Важно это потому, что такие в-живание и вы-сказывание не даются легко — это может быть неприятно, тоскливо, наконец, страшно, — и потому, что сомнение в «правильности» происходящего предъявляется — снова — открыто, как, например, в стихотворении «#прощайречь», где речь идет о страхе перед тем, что «утопит в болтовне простые слова / Которые мы топчем внутри / Как в детстве / Пока не научимся говорить». Последняя часть книги представляет собой несколько коротких пьес — скорее, в том значении, в каком о пьесах можно говорить применительно к Александру Введенскому. Здесь снова отчасти возвращается метрический стих, но пьеса у Шавловского представляет собой в наименьшей степени собственно пьесу, а в наибольшей — машину окончательного дробления речи, ее разделения между чужими и очевидным образом не всегда человеческими голосами.
* * *
Введенский тут, видимо, не случаен. Предисловие — тот самый момент, когда возникает желание (искушение) сформулировать, хотя бы и для себя, ответ на школьный вопрос: о чем эта книга? В реальности предисловия, конечно, существуют не для этого. Да и вопрос этот, в сущности, странный — а применительно к книге стихов, можно сказать, даже невежливый и вообще неуместный. Но так, гипотетически, если бы кому-нибудь пришло в голову его задать, то отвечать, конечно, следовало бы цитатой из «Разговоров» Леонида Липавского:
А.В.: <…> Поэзия производит только словесное чудо, а не настоящее. <…> я убедился в ложности прежних связей, но не могу сказать, какие должны быть новые. Я даже не знаю, должна ли быть одна система связей или их много. И у меня основное ощущение бессвязности мира и раздробленности времени. А так как это противоречит разуму, то, значит, разум не понимает мира.
Новая книга стихов Константина Шавловского — об этом.
Константин Шавловский
русская новая волна
разбилась о быт
коля хомерики так долго снимал ипотечные фильмы
что теперь его не берут в канны
остальные давно перешли
на стриминговый фаст-фуд
чики псих домашний арест
оптимисты
шторм
школа нового кино
в которой нет ничего нового
все русские фильмы
в одном свитере крупной вязки
съеденном молью еще в нулевых
в удаляющемся гнусавом ууууууу
песенки про электричку
все теперь продают истории
иностранные агенты
нежелательные организации
siloviki
истории про наступившее будущее
в которое взяли всех
триер это фон
говорит поэт рома осьминкин
застрявший со своей социальной поэзией
в сказочных нулевых
когда люди читали газеты
открывали жж турцию активизм
все открытия сделаны
для того чтобы их повторять
как рисунки на обоях
в любительских порнофильмах
или в сгоревших домах
выборгского лужского приозерского
какие протерлись
какие выгорели на солнце
а тут вот дети разрисовали
отметки роста путем
смотри там
грифельный карандаш
захлебнулся от нового роста /
нового чувства
<саба саба
шепчет тарковский
в эмиграции
разлагаясь на плесень и липовый мед>
полина рисует фоны
для мастерской подростковой анимации
калининградского кинофестиваля край света
через месяц в сестрорецке мы обсуждаем
пейзаж у сокурова и липавского
(написать текст для выставки!)
комаров на спине
комбинезоны
неосуществленные замыслы
номер в отеле калининград
предательство
рыб на песке и бумаге
предательство
по обе стороны моря
боль волосы мох
следы от укусов
поднимаются выше выше выше
к долгим рыбам на хрупкой бумаге
к океану которого нет
и не будет
какая-то новая жизнь
бывшая в активизме
в поэзии документальном кино
на рейвах и в техноклубах
закончилась
за активизм равнодушно сажают
документальное кино
без пяти минут под запретом
а рейвы заказывает администрация
обещая легалайз
на асафовых островах
на фестивале имени андрея тарковского
zerkalo
«ешка орешек и дурь
чтобы как-то уснуть», —
говорит выпускник вгика
только что потерявший миллиардный заказ
на празднование очередного столетия
большого русского города
световое шоу
баржи плывут по волге
радуя электорат
новой информационной автократии
как сказала екатерина шульман
на лекции в ельцин-центре
настя работает smm-менеджером в госкорпорации
и готовит транс-вечеринку blesk
в клубе на большой конюшенной
куда мы пойдем в июне
в разгар третьей волны коронавируса
и чемпионата европы по пыткам футболу
можно сделать
что-то со своим телом
только и остается
что спрятать в него боль
отчуждение слабость
обещание новой жизни
тело как горизонт
бедное бедное тело
в котором тайное будущее
свернулось как кровь
на укусе в лесу у станции ляйпясуо
выше выше выше грифельной точки
на узоре из рыб
выгоревшем на калининградском солнце
все что делается напоказ
умирает как мотыльки
не повторяется только
приключение против смерти
дом из пожара
и
нужно лететь — так лететь —
против света
в темный лес
в немоту пейзажа
там где жизнь
дрожит на своей границе
как
этот текст
я хочу чтобы ты любил только меня
я хочу чтобы ты любил только меня
я хочу чтобы ты любил только меня
19 июня 2021 года
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Современная музыка
Современная музыкаГородские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы
25 ноября 20211589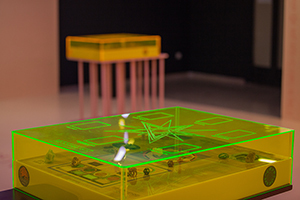 Искусство
Искусство Современная музыка
Современная музыкаДружба двух столиц на совместном треке московских альт-рокеров и петербургского хип-хоп-дуэта
24 ноября 20211908 Общество
ОбществоЮрист Правозащитного центра «Мемориал»* рассказала Эвелине Руденко о своей работе и о людях, которые пострадают от его потенциальной ликвидации
24 ноября 2021265 Литература
Литература Colta Specials
Colta Specials Общество
ОбществоГлеб Павловский об идеях Арсения Рогинского и о том, что за угрозой «Мемориалу»* стоит не политика, а стратегия военного типа
22 ноября 2021185 Общество
ОбществоИсторик Ирина Щербакова рассказывает о своих старых аудиозаписях женщин, переживших ГУЛАГ, — они хранятся сейчас в архиве «Мемориала»*. Вы можете послушать фрагменты одной из них: говорит подруга Евгении Гинзбург — Паулина Мясникова
22 ноября 2021334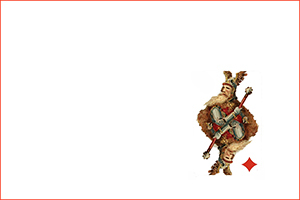 Молодая Россия
Молодая Россия«Иван Ильич подошел к мечети имени Рамзана Ахматовича Кадырова и горько взглянул на ее нежные белокаменные стены». Рассказ Сергея Мирошкина
22 ноября 20211603 Colta Specials
Colta SpecialsОлег Радзинский о новом фильме, снятом автором «Москвы» и «Мишени», режиссером Александром Зельдовичем
22 ноября 2021196 Искусство
Искусство She is an expert
She is an expertЛариса Малышева вспоминает, как в 1970-х монументальные объекты стали световыми — и как она их проектировала
19 ноября 2021260