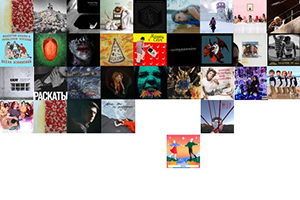В июне на прилавках оставшихся книжных магазинов появится книга Василия Бородина «Лосиный остров». Я ждал ее появления больше года; на «острове» собраны тексты, написанные 32-летним поэтом за 2005—2015 годы — время жизни одного поколения.
Тексты пятой книги московского поэта Василия Бородина — уходящая возможность побывать на краю света, там, где каждое движение души имеет форму, вес, направление и цель.
Часто я думаю, что тексты Бородина написаны несуществующим человеком, существом, забывшим себя ради возможности речи о дрожащем мире, окружающем нас постоянно и видимом для немногих.
Принцип чтения стихов Василия Бородина постоянно меняется — перед нами мерцающее свечение текста, обреченного открывать, высвечивать и охранять явления жизни и речи. Олег Юрьев в уже далеком 2007 году написал о Бородине самое точное:
«У Василия Бородина нет, во-первых, потребности и склонности посредством стихов раскрывать, дораскрывать и перераскрывать свою личность и рассказывать, дорассказывать и перерассказывать свою жизненную историю. То есть я бы сказал (грубовато, уж простите, но для экономии места): Василий Бородин больше любит стихи, чем себя. Он пытается освещать пространства, а не заселять собою уже освещенные».
Любовь к другому и постоянный отказ от себя как свидетеля свершающегося мира — основная позиция этих стихотворений. Что освещает письмо Бородина?
у игольного ушкА
верблюжат ведут смотреть
как на той стороне стежка
человек думает умереть
у него в организме
ветвящимся огнем
ходит мысль что он низмен
и псалом не о нем
а собака во дворе
все же не воет
и вот день в ноябре:
все живое
В текстах Бородина мы оказываемся свидетелями нескольких событий, происходящих одновременно,— например, умирания, невозможности спасения и при этом надежды на внешние признаки жизни, когда внутренние дают сбой: «собака» не признает смерти, и день случается — все приобретает горизонт существования, в котором реальность внутренняя сверяется с состоянием внешнего мира, обретающего в этой книге не столько смысл, сколько выраженную ценность, возможную в любой ситуации. Ценными становятся явления и события, незаметные нашему взгляду, пропускающему мир незначительной жизни:
нота майского жука
ни
с чем не сравнима
— как навстречу тебе — мыслящий орех
а у тебя в черепной скорлупке —
вообще ничего,
после
всех лет и книг
Остается ощущение неизбежной сопричастности с малыми силами этой Земли: нам показывают возможности слабой и недолговечной жизни — сколько живет жук? Акцент с возможного «себя» в текстах смещается на явление, достойное освещения больше, чем человек. Что помогает нам видеть «дрожащую жизнь» в текстах Бородина? Прежде всего, Свет — как среда обитания всех тех странных предметов и явлений, которые мы найдем в этой книге. Свет на этих страницах — не только место, но и способ познания; еще Платон в конце шестого тома своих сочинений, а точнее, в трактате «Государство» пишет, что «создатель чувств породил и силу видеть (чувство зрения), и силу быть видимым. Но чтобы увидеть, например, цвета, необходимо, чтобы к этим двум силам, или “родам”, присоединился третий род — свет».
Но чтобы смотреть на этот Свет, необходимо найти носителя — человека:
— так выносят воду в крУжке
человеку цвЕта всей
расстающейся землИ —
клину видимой углами
непрямыми тех полей
европейских — журавлей
клину видимой углами
непрямых полей — землИ
цвет лицА у человека
цвет лицА и рук когда
кружку взял — а там вода
Зеркало узнавания себя — обретение облика — у Бородина не принадлежит кому-то, оно относится к стихии, доступной всем, — воде как стадии забвения — пространству выравнивания опыта, когда сама земля посмотрела в зеркало воды с помощью человека и увидела воду, хотя обычно мы видим что-то, отраженное в водной глади.
Никто в этой книге не обижен, каждый голос находится на одном уровне с остальными — но мы не среди одинаковых существ и чувств: напротив, мы оставляем следы своих пальцев на полях изобилия. Эти поля полны Жителей — не замечаемых теми, кто лишен взгляда. Рядом находятся явления, поменявшиеся признаками, частями своего образа: «крыло серого зимовавшего целлофана» существует наравне с «мусорными тенями птиц» — к ним не подойти, можно только смотреть:
видишь, они невидимы, они там
и не страшны, и ходят не приближаясь —
мусорных тЕни птиц по пустым кустам;
«жизнь,
где твоя жалость»
видишь, к разрыву туч повело крыло
серого зимовавшего целлофана
в ветках, и все дорОги лежат светло,
и
идти — рано
Дорога к миру Бородина построена из лучей света, направленных на то, что обычно скрыто от глаза и ума. Поэзия в этой точке обращается к опытам живописи и, прежде всего, «лучизму» Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. Предмет начинает восприниматься из разных центров; каждый живой участок текста Бородина обретает свою перспективу, и мы воспринимаем не сам предмет в тексте, а «сумму лучей, идущих от источника света, отраженных от предмета и попавших в поле нашего зрения». Предмет и у Михаила Ларионова на холсте, и в письме Василия Бородина — отправная точка для движения эмоции, ритма наблюдаемой жизни. Читателю предстоит стать невольным свидетелем стирания границ между предметом и плоскостью — в данном случае текстом.
вне земных своих слабых стран
вне границ
поет угол колОк заряд
света — звукоряд
и из неотвратимых ран —
взрыв ресниц
чем старения серафим —
краска, слой —
ни раскачивал бы ветвей
свод — живей
все становится: он как фильм
он незлой
грани таяния по «чуть
было не простил»
у него сторонятся глаз
и сплелась
сетка среди листвы лучу —
был, простил
Мир «Лосиного острова» устал от взгляда, взгляд ранит, в самой точке касания уже накоплены тысячи глаз. И тогда сам предмет в тексте Бородина становится источником света и, оставаясь в тени смысла, обращает наше внимание на другой предмет, который важнее его, и мы видим, как одна часть мира жертвует собой для другой. Отказ от себя как части текста у Бородина позволяет показать реальность, больше всего напоминающую реальность иконы, но иконы непривычной, совмещающей «низшее» и «высшее» этого мира; письмо Бородина уравнивает икону-слово и «поролон в подошве»:
терменвокс распадается на мензуру и амплитуду
туда смыли золото по ошибке
и икона в воздухе обрастает
человеком — встречным, любым другим
поролон в подошве плохих кроссовок
расставанье, гимн
Мы читаем стихотворения, в которых строятся связи между не случающимися рядом вещами, — связи, живущие недолго, но возможные в опыте любого — как и их потеря.
Василий Бородин ясно осознает недолговечность любой связи: «дальние звезды — вспышками — объединялись в фигуры, / а / потом между ними так же мгновенно терялась связь». Но в этой книге мы никогда не окажемся в пространстве полной тьмы; свет окружает нас в разных плоскостях: телесной «свет вокруг руки» — внешней «лужи светятся по краям» — и метафизической: «как корабль, идущий вдоль ровных, как свет, забОров».
Сравнение композиции текстов Бородина с иконой — не случайная ассоциация по выхваченному из «песни» слову. Речь идет о методе обратной перспективы, перенесенном Бородиным из практики иконописи и трудов Флоренского в устройство своих текстов. Обратная перспектива — художественный прием, при котором удаленные объекты кажутся более масштабными, а невидимые грани предмета — видимыми: смысл подобного изображения — реалистичность, в отказе от иллюзии — утверждение иного, малопредставимого мира: я так существую!
Образы, которые можно найти в текстах Бородина, подозрительны; часто возникает ощущение движения образов — скорости видения, и тогда сам образ уходит на второй план: создается впечатление, что письмо Бородина претендует на мир «не образов», мир, где все существует просто. Эта гипотеза напрямую связана с видением мира первозданным человеком, описанным, например, в «Невидимой брани» Никодима Святогорца: «первозданный Адам создан от Бога не воображательным». Он одной «мыслью чисто, невещественно и духовно созерцал одни чистые идеи вещей, или их значения мысленные».
Практика построения в текстах Бородина обратной перспективы противостоит линейному восприятию мира — учитывая, что прямая перспектива выражает субъективный взгляд на мир. Флоренский писал, что мир в прямой перспективе неполон: это лишь внешняя оболочка, соотносимая с пространством «падшим человеческим умом, утратившим целостность». Благодаря возможностям обратной перспективы в письме Бородина предмет не видится нам, а уже мыслится, но эффект зрения-взгляда остается — мы привыкли смотреть.
Стихи, написанные поэтом за 10 лет, не принадлежат одной системе зрения; кроме явной связи с возможностями иконы мы наблюдаем выход письма в плоскость, где перспектива отсутствует, где она излишня:
трещина пришлась
на треть лика
правый глаз уцелел
и нас видит, но
без объема, просто:
«я среди них»
В этом небольшом тексте в сжатом виде представлен ответ на вопрос, как видели мир египтяне: для них плоскость без объема — это мир для многих, мир, ведущий этих многих в края загробного мира. В путешествии по страницам «Лосиного острова» нас постоянно будет преследовать ощущение смены атмосферы — словно слои воздуха, сами не зная о том, соприкасаются, но относятся в эти моменты к очень далеким друг от друга мирам.
Кроме лучизма, принципов иконописи и египетских надписей поэтика Бородина на ритмическом уровне связана с открытиями физики, давно ставшими частью общего образования, — например, с принципом Гюйгенса о существовании света как волны; тогда свет в своем движении дотрагивается до каждой точки и превращает ее в центр новых колебаний:
как кони в яблоках живут?
овес овес навес
и в яблоках еще белы
и слЕпы семена
веди веди рукой траву
весь шар холма в траве
и крыш далекие углы
бледны как имена
забытых еле-встречных, вдруг
как бы глядящих сквозь
вагонный грохот, а когда
все видно — их и нет
но воздух тут — как «все вокруг»,
«все вместе», «все сбылось»
и ободом горит вода
сребрясь на глубине
Волна бородинского письма охватывает один предмет, его свойство и перетекает на другой, связанный с ним, и так — пока длится дыхание текста.
Иногда оно замирает; эта остановка тоже имеет физическое объяснение: сигнал, посылаемый спутником, не сразу доходит до Земли, и образуется промежуток, когда свет в пути, но будто уже на месте, — это зазор между посылкой сигнала и приемом команды к действию — и тогда в «Лосином острове» происходит чудо родства и оживления чего угодно, например, сил природы — это время, пока письмо выстраивает почти необъяснимую драматургию, а поэт продолжает заниматься своим уделом — уточнением слов, чтобы они соответствовали новой, только что познанной ситуации:
брат Снег снял фильм, доминиканец
брат Дождь — пошел, он францисканец
пошел
со съемочной площадки
увидел рыжую лошадку
и говорит:
а крыша где?
и оба ходят по воде
* * *
Чтение современной поэзии — процесс уточнения своего положения в этом мире, положения головы, сердца и остальных органов дыхания, движения и мысли. Свет Василия Бородина — пример перевода «возвышенного» Света, света нетварного (божественного и доступного немногим), в свет, созданный руками человека для таких же, как он, — без иерархии и власти одного элемента над другим.
и дрожит, шагнув, стрелка
— но при мытье тарелки вдруг —
планетарной
дуговою орбитой капля бежит
и отражает лампу —
как свет нетварный
взял и обвел дыханием
шаг и жизнь
* * *
После диалога со стихотворениями Бородина осталось несколько вопросов, которые были заданы автору «Лосиного острова»:
— Вася, читая твои тексты, часто забываешь о происходящем вокруг — попадаешь на сковородку забвения; как ты сам воспринимаешь важные для тебя стихи?
— Задумался! Кажется, есть две породы стихов: одни довешивают к реальности какой-то трудноуловимый объединительный призвук — знаешь эти старинные инструменты с бурдонной струной, которая всегда открыта и играет одну ноту; ну и вот с некоторыми стихами буквально — идешь смотришь на листву, а сквозь нее на тебя вдруг идет твоя собственная жизнь, шмяк — проснулась. Просто наличие жизни. Оно вроде невидимо, но это как иногда летом сидишь у открытого окна, и теплый воздух, встречаясь с тем, что похолоднее, делается виден, идет такой вертикальной волной по всем деревьям, по крышам вдали — вот бывают такие стихи. А другие — не о межпредметном-межчеловеческом, а собственно о предметах и людях, об их отдельности, о том, что все конечно и, сколько ни живи, ни черта не поймешь ни в чем.
Мне самому если какие-то стихи удаются — они такие дворняги, помесь этих двух пород. Там все, с одной стороны, случайно, врозь и на фиг, а с другой — вместе и в смысл.
Сейчас скажу ерунду, но смотри. Мы все — ровно настолько художники, насколько способны увидеть совершенство всяких «случайных» одновременностей. Вот окурок у лужи лежит под углом к другому, и этот случайный угол — самый красивый из возможных. Ногой подвинешь, сам, намеренно — будет бездарно. Или какие-нибудь люди на соседнем эскалаторе: они всегда — совершенно осмысленно построенная группа, с драматургией, с метафорическими всякими планами матрешкой. Как-нибудь покажу гравюру Фаворского «Станция метро “Охотный Ряд”» 39-го года. Там сначала глядишь на лица: девчонки там — ну как Беатриче из «Виты-Нуовы»; потом замечаешь страшноватого военного в правом нижнем углу. И так глядишь-глядишь, какими-то рывками зрения поскальзываешься на довольно быстром движении, очень хорошо переданном, — и замечаешь в конце концов, как сделано отражение в полированном дереве, в этих широких перилах между едущими лестницами. Это отражение там и есть суммарная «современность», настоящий смысловой и эмоциональный узел, и в нем — а это ну вроде бы просто талантливое и точное графическое решение: отражение и отражение — в нем тревога, явная, общая смазанность тяжелая, именно внутреннее поскальзывание на всем — и, в конце концов, обезличенность и перевернутость жизни! При всей молодости, здоровье, радости иногда. И радость там — такая... нервная и шаткая. Ничего тупо-обличительного в этом рисунке нет, авторского малодушия, самообманов — тем более нет; все сделано как соседство, пропорционально точное, буквально идиллии — и буквально ада.
Не знаю, зачем рассказываю; время у нас сейчас не совсем такое, смысловые всякие слои в нынешнем искусстве — в стихах, в чем угодно — тоже не совсем такие, но эту картинку я тебе покажу, это практически камертон.
— Много ли ты не можешь вспомнить из тех событий, что с тобой происходят?
— Да! Часто не знаю о чем-то, было или приснилось. Поэтому надежнее всего — жить вперед.
— Помнишь ли ты свое состояние до того момента, когда начал серьезно писать?
— Так. Совсем серьезно писать начал лет в десять. Прочитал переводы хокку; слоги не считал, просто это ведь и зрительно очень красиво: три строчки. Первое стихотворение — вот, помню, улет серьезное:
старый колдун,
одинокий и лысый,
был похоронен здесь
Не знаю, в какую лепешку расшибиться, чтобы это не сбылось.
— Что тебя здесь держит?
— Отшутиться, нет?
Документалку видел — знаешь, какую? Как муравьи переплывают реку. Они всем муравейником идут к берегу и на воде сцепляются лапами в круглый блин. Между ними, в этих узлах из лап, получается воздух, и блин не тонет. Воздух в лапах и держит — что еще? Беречь друг дружке, кроме прочего (или вообще прежде всего), свободу, непредсказуемость; можно размахнуться и назвать это каким-нибудь четырехбуквенным английским словом из битлзов-пистолзов, а можно молча. Вот и все.
— Вася, поэт часто по своему возрасту не соответствует своему опыту, некоторым можно в тридцать дать пару сотен лет или вовсе записать в ранний мезолит. Как ты воспринимал большие витки истории вокруг тебя и страны, например, начало 1990-х, например, любой митинг 2010-х, взрывающий ФБ, когда люди, не чувствующие своих прав, пробуют обрести их в публичном пространстве?
— Тошно от того и другого поровну; можно сразу про мезозой? Еду на черепахе, грызу специальный корешок, как йеху, — и вдруг навстречу ослепительная... Молчать, ладно, девяностые. Это будет неинтересная картинка, но она такая же узловая, как тот Фаворский. Допустим, 94-й год. Потихоньку утихает гиперинфляция; общая нищета входит в такое русло неизбежное, когда с ней уже смирились. И из одежки на вещевых рынках — китайские черные куртки с оранжевой подкладкой, которые можно вывернуть наизнанку, и они становятся оранжевыми куртками с черной подкладкой. Потом наоборот. Потом опять наоборот; можно никогда не стирать. Всех размеров были эти куртки; всех возрастов люди в них оделись. И кроме них были лыжные шапки желто-зеленого неонового цвета. И вот октябрь ближе к ноябрю, небо полмесяца уже серое, день ближе к вечеру, морось, стены домов давно некрашенные, в мелких трещинах, ржавые столбы и совсем ржавые сварные опоры козырьков на остановках по обе стороны дороги. Людей почти нет. И все — и дети, и взрослые — в этих тяжелых от воды черно-оранжевых куртках и — тоже все — в неоновых, мертвенно-ярких шапках, которые эту сплошь серую, немощную, но остаточно человеческую унылость сверлят таким... жестоким космосом! Это так запросто не расскажешь; про рейвы интереснее. Но я помню тот день и ту улицу, ту простенькую колористическую ситуацию — труднообъяснимо обо-всем-правдивую, до последней глубины.
— Не все знают, что ты много рисуешь, — скажи честно, где все твои работы, это же тысячи графических листов и живописи? Есть ли желание показать эти работы в формате выставки?
— Все у друзей, все у друзей. И девять десятых этих рисунков — полнейший мусор.
— «На самом деле» вопросов к тебе тьма, но задам последний. Была такая страшилка в конце девяностых — про мертвое и живое: никак нельзя было понять, кто перед тобой — мертвый или живой человек? Тогда еще Пелевин написал рассказ «Синий фонарь», в котором дети в палате играли с этими статусами; там все мальчики в какой-то момент сговорились стать мертвыми и напугать одного помладше и понаивнее. Но тогда понятно — я сам в школе не очень понимал, кто шевелится, а кого шевелят. Есть ли сейчас подобные ощущения? Какие критерии жизни?
— Уй, знаешь, наверное, как. Такая жизнь-совсем-жизнь — она может быть как мяч, который все друг другу кидают, а иногда он может лежать в песке. О нем вдруг вспоминаешь, идешь искать. И ни фига, седеешь в этом поиске, забываешь в конце концов, куда вообще идешь, — а он тебе как раз на башку падает. Это что-то для каждого дискретное, само по себе ничье. И этого мяча можно бояться (фиг знает, он то огонь, то лед), можно пытаться забрать себе целиком, но ведь все не то. Знаешь, я до сих пор не видел целиком «Blow-up», видел только сцену с невидимым мячом. По-моему, наши стишки, надежды, лучшие дни — это вот такой невидимый мяч. Как там в одном стишке... Верный шар.
Василий Бородин. Лосиный остров. — М.: Новое литературное обозрение, 2015.
Понравился материал? Помоги сайту!
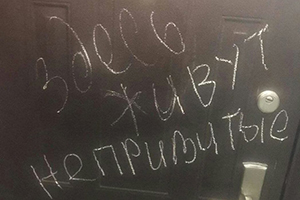 Общество
Общество