 В разлуке
В разлукеРазговор c оставшимся
Мария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202426508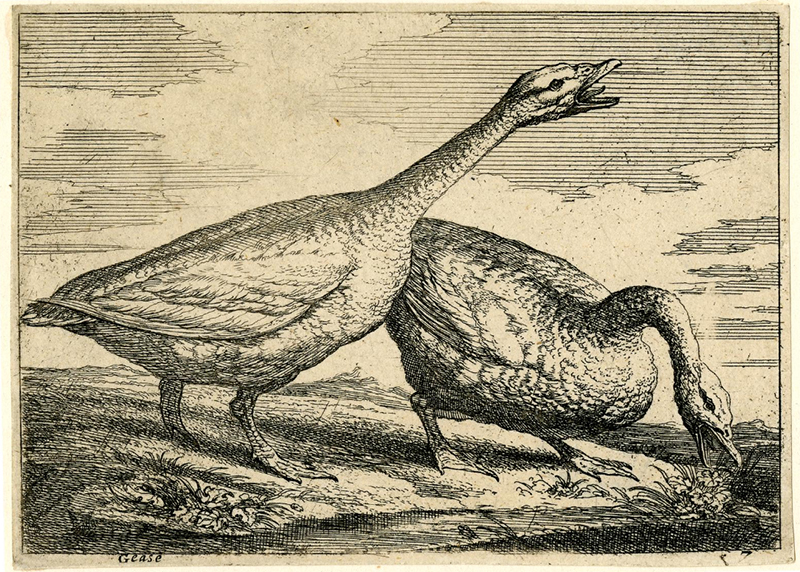 © The Trustees of the British Museum
© The Trustees of the British MuseumВот доподлинная история. Я не скажу, что знавал главное действующее лицо, слышал только голос в трубке, да еще он играл в составе не то трио, не то квартета на панихиде по младшем своем брате, которому не мог простить всесоюзной славы скрипичного вундеркинда. Гуся Больштейн. А этот был Муся. Мусик, съешь гусик. Съел бы. Напрасно гусик заискивал и оправдывался: не ешь меня, я не виноват, что прославился, что для всех ты — мой брат, а не наоборот: я — твой.
Жили у мамуси
Два веселых гуся,
Один Буся, другой Муся,
Два веселых гуся.
Кто не знал Буси Гольдштейна! И никто не знал Муси — что он великий маг, второй Калиостро. К тому же помимо прочего он в юности играл на скрипке по всем одесским правилам. Для малолетнего Буси старший брат — это гипсовый горнист. А малолетним Буся остался навсегда: кругленький, в сползавшей набок тюбетейке из чужих волос, дважды в неделю ездивший из Ганновера в Вюрцбург преподавать.
Однажды я спросил у него: правда ли, что его брат может вызывать тени умерших?
— А вы сами спросите, ему будет приятно, — и он набрал номер телефона прежде, чем я успел опомниться.
Муся, живший в Гамбурге, уехал не по израильской визе, а еще раньше, как-то через Берлин, на жене верхом перемахнул через стену и был таков, на него похоже.
— Привет, у меня Гиршович, он хочет тебя о чем-то спросить.
Представляю себе, с какой гримасой это было воспринято: хаймович, гиршович — Бусины ганноверские знакомые, вы же понимаете.
— С неослабевающим интересом, Михаил Эммануилович, прочитал вашу книгу (у него в «Посеве» вышла книга), — выпалил я и поторопился передать трубку Бусе, который что-то в нее промямлил с виноватой улыбкой.
Я пишу в режиме самоцитаты: то, о чем собираюсь писать, возможно, давно уже написал. Забавно сравнивать свои отражения и постигать правоту сказавшего, что двойники близнецов — отнюдь не близнецы.
История эта берет свое начало в достопамятном для Одессы 1809 году, когда Тома де Томон завершил строительство Одесского театра. Получился губернского значения типовой сундук с треугольным фронтоном и колоннами. Спустя шестьдесят три года ему предстояло сгореть дотла, чтобы возродиться подобием дрезденской оперы, незадолго до этого тоже сгоревшей. В том, как оперные театры один за другим вспыхивают и сгорают — будь то Парижская опера в 1762-м или «Ла Фениче» в Венеции в 1996-м, — есть что-то общее, щемяще-роковое, заставляющее вспомнить о бумажной балерине из сказки Андерсена.
На первом представлении Одесского театра давались одноактный зингшпиль «Новое семейство», сочинение некоего Фрёлиха из Вюрцбурга, и водевиль «Утешенная вдова» в исполнении русской труппы Фортунатова — деда знаменитого лингвиста Филиппа Феодоровича Фортунатова. Играл крепостной оркестр Овсянико-Куликовского, этот доводился дедом известному санскритологу Овсянико-Куликовскому.
Богатый таврический помещик Овсянико-Куликовский организовал оркестр, исполнявший по преимуществу симфонии барина. Последний, когда в Одессе открылся театр, в порыве чувств подарил ему свое детище, о чем зрителей уведомляла программка: «Оркестр, составленный из виртуозов, есть щедрый дар Николая Дмитриевича Овсянико-Куликовского театру Одессы». Еще Пушкин держивал в руках эту программку.
Согласно Энциклопедическому словарю, что у меня на полке (издательство БСЭ, том подписан к печати 6 апреля 1954 года), Одесская опера открылась не Фрёлихом и не Фортунатовым, а Двадцать первой симфонией Овсянико-Куликовского, по этому случаю им сочиненной. Ее ноты, расписанные по голосам, погибли при пожаре 1873 года. Точь-в-точь как «Слово о полку Игореве», оригинальный список которого разделил судьбу Москвы, спаленной французом, породив вопрос: было ли чему сгорать? И если нет, то кто же был гением мистификации, положенной в основание величайшей из литератур? Кто этот русский Макферсон... Нет-нет, конечно же, спаленная пожаром, а не французом. Как и не русским патриотом, подобно Крещатику: чтобы врагу не достался.
«Спаленная пожаром» означает, что в пожаре виноват пожар. Тридцать первого декабря завершились работы по сооружению одноэтажного вестибюля, а к утру второго января от театра, построенного Томоном, остался почерневший остов. Эффект самовозгорания. По результатам официального расследования, произведенного комиссаром пожарной дружины, было объявлено, что здание сгорело через неисправность газового рожка. Кто же напишет: «Само загорелось». Почти как «само зародилось» — для должностного лица вольнодумство самоубийственное.
Время от времени официальные данные претерпевают изменения. В БСЭ, отражающей государственную точку зрения на текущий момент по широкому спектру вопросов — от войны в Корее, где «корейская народная армия в тесном сотрудничестве с китайскими добровольцами нанесла мощные удары войскам США», до «Овсянико-Куликовского, Николая Дмитриевича (1787–1846), укр. композитора, автора симфонии на открытие Одесского театра (1809) — выдающегося образца раннего укр. симфонизма».
Постыдный «тяп», и это при том обилии часовщиков с лупой на лбу, что корпели не то что над каждым словом — над каждой буквой. На самом деле театр был открыт 10 февраля 1810 года. Трудно сказать, обратил на это кто-нибудь внимание или нет: последующие издания БСЭ в силу известных всем обстоятельств избегают упоминаний о композиторе-крепостнике. Обстоятельства эти — результат ошибочного мнения, что композитора Овсянико-Куликовского не было и никакой симфонии он не писал.
Именно недоверчивость — я о себе — делает человека суевером. Я ничему не верю, во всем подозреваю обман зрения, оттого зеркало для меня — колдун. Я околдован собственными цитатами.
21-я симфония Овсянико-Куликовского стала такой же реальностью, как 21-я симфония Мясковского. Запись, сделанная Мравинским, вошла в так называемый золотой фонд Радиокомитета — тут одновременно и вахтерское чинопочитание, и ощущение себя частицей нетленных мощей культуры.
По образцу центрального пантеона республикам дозволялось иметь свои национальные кумирни. Никому и в голову не могло прийти, что вновь обретенный шедевр — проделка шутника. Михаилу Гольдштейну не раз приходилось делать подобные находки. Раскопал «Экспромт» Балакирева, регулярно передававшийся по радио. Концерт для альта Хандошкина, «выдающегося русского скрипача-виртуоза и композитора» (БСЭ), прочно вошел в репертуар музучилищ. Я с детства его знал — мать преподавала альт в училище Римского-Корсакова.
Борьба за отечественные приоритеты пережила борьбу с космополитизмом: паровичок Ползунова никто не отменял, в отличие от врачей-убийц. Какой-то аспирант, отдавший всего себя изучению творчества Овсянико-Куликовского, пожелал ознакомиться с оригиналом партитуры, но тщетно. Тогда он заподозрил Михаила Гольдштейна в хищении бесценного манускрипта — от человека с фамилией Гольдштейн и по сей день ничего другого ждать нельзя. Арестованный во всем сознался: никакой симфонии нет и не было, это он, Муся, ее написал.
Если бы он сознался в шпионаже в пользу Японии или в намерении извести высшее руководство страны, ему бы поверили, не сказали бы: «Ври, парень, да не завирайся». — «Шоб я так жил». Макферсон в подтверждение подлинности Оссиановых песен сделал их обратный перевод и был изобличен. Для Гольдштейна спасительным было доказать подлог, для чего он восстановил симфонию по памяти.
Не-ет... Украинская муза в дураках: грае, грае, воропае. В Москве смеются: «Два веселых гуся. Эк его, Мазепу, Рабинович-то». Дело замяли: на нет и суда нет, так им и надо, мыколам. Справочную литературу, по своему обыкновению, почистили. Казалось бы, все.
Так вот, совсем не два веселых гуся. Я — Фома неверный, которому являлись призраки. Овсянико-Куликовский не убедил меня, что он из их числа. Жизнь учит: действительно то, что уму непостижимо. Оглянемся на минувший век: будучи в здравом уме, кто бы мог написать такой сценарий?
О том, что новоявленный украинский классик, с которым носились как с писаной торбой, оказался — торжествующая пауза — одесским евреем, братом Буси Гольдштейна, рассказывалось со смаком. Правда, отец, игравший у Мравинского и с ним записывавший эту симфонию, после разоблачения сказал: «Никогда бы не подумал. Разве что Двадцать первая — это уже перебор». Я удивился: с каких пор двадцать одно — перебор? (А надо сказать, что в карты я выучился играть раньше, чем на скрипке.)
Лишь потом понял, чтó папа этим хотел сказать: больно уж нарочитый номер у симфонии. Как Девятая. В эпоху разгула советской музыки Двадцать первая Мясковского исполнялась даже чаще, чем Девятая Бетховена. Папины слова не означали признания композиторских заслуг автора. Подражать русскому барокко — не фокус. Русская музыка до Глинки, включая Бортнянского с его «Коль славен», те же танцы в петровской Ассамблее против Мерлезонского балета в Лувре.
Главная заслуга Гольдштейна в том, что всласть поиздевался над государственной идеологией. Но об этом он предпочитает не говорить в своих «Записках». А все больше про то, как его таскали в КГБ, про антисемитизм, вынуждавший свою музыку выдавать за чужую. Хороша музыка: тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Нет чтобы сказать: «Да, я скоморох, кощунство, клоунада — моя атмосфэра». Но до чего же хочется выступить в трагическом амплуа: вышли мы все из местечка, дети семьи трудовой. Трагическая мина — первый признак дурновкусия.
Либо... Медиума, сообщающегося с душами умерших, тоже трудно себе вообразить подмигивающим. «Борис Эммануилович, правда, что ваш брат умеет вызывать тени умерших?» — если с моей стороны спросить так и было мелким хулиганством, то Буся, кажется, не очень удивился вопросу. В шутку ли, всерьез ли, речь об этом заходила и раньше.
Ирина Николаевна, жена Буси, слышавшая нелепый телефонный разговор с деверем, стояла с каменным лицом. Как и я, она училась у Кузнецова, только десятью годами раньше. Упоминание имени Кузнецова большого энтузиазма в ней не вызывало. Сейчас, задним числом, я нахожу, что внешне они были похожи — вытянутыми физиономиями. А какой-то минимум артистизма скрипичность все же предполагает. Моя дочь, учившаяся в одном классе с ее внучкой, рассказывала, как Ирина Николаевна при всех ударила ее по лицу. Может быть, за какую-нибудь скрипичную провинность — девочку нещадно учили на скрипке. Было это уже после Бусиной смерти. В могилу его свел рассеянный склероз. Паралич подступал к горлу, как вода в трюме. Он уже не мог играть на скрипке, и ему давали ее подержать, совсем как маленькому. Вот тогда на похоронах я увидел Михаила Гольдштейна — в черном, с крашеными волосами. «Он играл в составе не то трио, не то квартета». Но, скорее всего, память мне изменяет и он играл Баха соло.
В тот вечер, когда за разговорами я уже позабыл про Бусин звонок брату, Ирина Николаевна, отправив в рот ложечку сахарного песку — у нее была такая особенность: после всего съедать еще ложечку сахарного песку, — сказала вдруг: «Что ты его всем сватаешь? Он тебе хоть раз позвонил?» А мне сказала: «С мертвыми, говорите, общается?» Я промолчал: скажи я что-нибудь, это был бы «перебор».
У нашего общего с ней учителя Кузнецова был друг детства, который вымахал в лысого массивного дядьку, на большом лице очки в массивной черной оправе — и вообще домахался до того, что сделался директором Большого театра и Дворца съездов.
— Чуваки, — он не выговаривал «эль». Я имею в виду композитора Чулаки. Иногда по старой дружбе Чулаки захаживал к Кузнецову на какое-нибудь семейное торжество, на которое бывал зван и я. Как-то раз вельможный сей товарищ, привыкший, что, когда он открывает рот, кругом все смолкает, сказал — с чувством, с толком, с расстановкой:
«Таинственные явления человеческой психики могут быть использованы в военной области. Известно, что американцы сотрудничают с ведьмами вуду. Мы не можем позволить себе отставания. В зарубежную прессу просочилась информация, что в ходе спиритического сеанса одна знаменитая скрипачка вызвала дух Шумана. Шуман сказал, что у него есть неизвестный концерт для скрипки. Позднее эта информация нашла свое подтверждение, дух Шумана разучивал с ней свой концерт. Неудивительно, что деятельностью Михаила Гольдштейна заинтересовались органы».
Я еще только начинал тогда писать — возводить свой дом с примечаниями, изнутри весь в зеркалах, как жилище Нарцисса. В своей первой большой вещи — «Мертвецы в отпуске» — я вывел Чулаки под именем Вурдалаки.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с человеком, который принципиально остается в России: о том, что это ему дает и каких жертв требует взамен
28 ноября 202426508 В разлуке
В разлукеПроект «В разлуке» начинает серию портретов больших городов, которые стали хабами для новой эмиграции. Первый разговор — о русском Тбилиси с историком и продюсером Дмитрием Споровым
22 ноября 202424820 В разлуке
В разлукеТри дневника почти за три военных года. Все три автора несколько раз пересекали за это время границу РФ, погружаясь и снова выныривая в принципиально разных внутренних и внешних пространствах
14 октября 202427678 В разлуке
В разлукеМария Карпенко поговорила с экономическим журналистом Денисом Касянчуком, человеком, для которого возвращение в Россию из эмиграции больше не обсуждается
20 августа 202433577 В разлуке
В разлукеСоциолог Анна Лемиаль поговорила с поэтом Павлом Арсеньевым о поломках в коммуникации между «уехавшими» и «оставшимися», о кризисе речи и о том, зачем людям нужно слово «релокация»
9 августа 202434134 В разлуке
В разлукеБыть в России? Жить в эмиграции? Журналист Владимир Шведов нашел для себя третий путь
15 июля 202436697 В разлуке
В разлукеКак возник конфликт между «уехавшими» и «оставшимися», на какой основе он стоит и как работают «бурлящие ритуалы» соцсетей. Разговор Дмитрия Безуглова с социологом, приглашенным исследователем Манчестерского университета Алексеем Титковым
6 июля 202437420 В разлуке
В разлукеФилософ, не покидавшая Россию с начала войны, поделилась с редакцией своим дневником за эти годы. На условиях анонимности
18 июня 202443003 В разлуке
В разлукеПроект Кольты «В разлуке» проводит эксперимент и предлагает публично поговорить друг с другом «уехавшим» и «оставшимся». Первый диалог — кинокритика Антона Долина и сценариста, руководителя «Театра.doc» Александра Родионова
7 июня 202442639 В разлуке
В разлукеИван Давыдов пишет письмо другу в эмиграции, с которым ждет встречи, хотя на нее не надеется. Начало нового проекта Кольты «В разлуке»
21 мая 202438398 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials