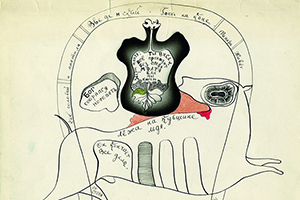 Литература
ЛитератураФилософ и художник: Яков Друскин и Михаил Шемякин
На 71-м году жизни скончался Жерар Мортье — легенда современного оперного театра, бывший интендант брюссельского La Monnaie, Зальцбургского фестиваля, Парижской оперы, мадридского Teatro Real. Именно ему благодарны поклонники современной режиссуры и за открытие новых режиссерских имен, и за то, что многие театральные гуру, такие, как Марталер, Штайн, Уилсон, Бонди, стали постоянно работать в опере. С той же силой его проклинают поклонники традиционного оперного спектакля за то, что сейчас на европейских сценах почти невозможно увидеть старую добрую оперу с писаными замками и богато драпированными примадоннами, которых не заботит ничего, кроме пения.
Во время работы Жерара Мортье в Teatro Real Илья Кухаренко много с ним общался и расспрашивал о самом начале его карьеры интенданта и продюсера.
— Ваши официальные биографии начинаются с Брюсселя и быстро переходят к Зальцбургу, но мне интересно все с самого начала. Ведь никто в 14 лет не думает о себе как о будущем интенданте La Monnaie или Salzburger Festspiele. Что думали вы?
— До Брюсселя еще был Дюссельдорф, потом я пять лет работал с Донаньи (знаменитый дирижер, муж сопрано Аньи Сильи. — Ред.) сначала во Франкфурте, затем в Гамбурге, а затем были годы с Рольфом Либерманом (композитор и оперный интендант. — Ред.) в Париже. Тогда я хотел стать оперным режиссером, и эти годы были очень важны для меня. Сейчас молодые режиссеры приходят в оперу, не имея никакого понятия о том, как устроен театральный механизм, как он работает. А я участвовал во всем — ходил на кастинги, репетиции, планирование, был драматургом.
Однако еще до того я был ассистентом на Flandres Festival — это был маленький фестиваль, но именно поэтому я там занимался всем вплоть до того, что печатал адреса, заклеивал конверты и сам рассылал; иногда нужно было даже почистить ботинки кому-нибудь… и это была лучшая школа в моей юности — если это, конечно, интересно русскому читателю…
— Именно это и интересно.
— Просто мы все немного романтизируем нашу молодость, когда становимся сильно старше. Несомненно, у меня все началось с того, как в 11 лет я попал с бабушкой на «Волшебную флейту». Надо сказать, что и до этого я постоянно просил маму: «Пожалуйста, пожалуйста — я хочу пойти в оперу!». Отец держал булочную, мама тоже очень много работала, но мои родители при этом были очень образованными людьми. И однажды мама сказала, что сегодня я пойду с бабушкой на дневное представление «Флейты». И с той поры я влюбился в оперу. Я хотел быть певцом, поскольку пел в детском хоре. Но в 15—16 лет я понял, что хочу руководить, управлять процессом, а потому постепенно решил, что лучше быть дирижером. Однако оказалось, что начинать в 16 лет слишком поздно. И, несмотря на твердое решение работать в музыкальной сфере, я все же пошел учиться в университет…
— Учиться чему?
— Юриспруденции. И в то же время я собирался делать все для популяризации оперы. Ведь тогда в Бельгии не было высокой оперной культуры. И я с 17 лет стал создавать большую молодежную оперную организацию — для того чтобы посещать оперу в Генте, маленьком городке. Нас вскорости было несколько тысяч человек лет по 17—19. Потом мы расширили географию и стали ездить за пределы Бельгии.
— Какого круга и социального статуса были эти молодые люди?
— Разного. Студенты в основном, конечно. Но были и, что называется, представители рабочего класса. У меня, кстати, было много друзей из рабочего класса, поскольку мы жили с семьей в многолюдном и совсем не дорогом районе, рядом с портом.
Эта организация помогла мне встретить множество людей из оперного мира, прежде всего из Германии. Уже тогда я мечтал посетить Зальцбургский фестиваль. Мне было 19, и это было довольно трудно сделать. Я работал, конечно, но Зальцбург — дорогое удовольствие. И тогда я стал писать рецензии в газеты. Сейчас мне немножко стыдно за те мои статьи, но зато я спокойнее отношусь к тому, что пишут молодые критики. Так или иначе, это был способ получить бесплатные билеты для прессы. Так с 19 лет я стал каждый год посещать Зальцбург, в 21 год попал в Байройт.
Но, строго говоря, решение работать в музыкальной сфере (и прежде всего в опере) было принято уже в 14 лет. И вот, когда я стал серьезно думать о какой-то карьере в опере, я начал слушать записи, чтобы познакомиться с мировым репертуаром. А в те годы многих опер просто не существовало в записи. Скажем, не было ни одного студийного «Кольца нибелунга».
 © Javier del Real
© Javier del Real— Разумеется. Первые записи появились в середине 60-х — это было первое студийное «Кольцо» с Джорджем Шолти, если не считать «живых» записей из Байройта и Ла Скала, которые были редкостью…
— Да, вы правы, но это к тому же было страшно дорого, ведь нужно было покупать весь комплект, а он стоил бешеных денег. Однако еще большей проблемой были записи современной музыки, привлекавшей меня с детства. Вы знаете, моя мама, которая бросила школу в 14 лет, никогда не интересовалась только «травиатами». Она повела, например, меня на гастроли знаменитого Концертгебау — он приехал из Амстердама с Ойгеном Йохумом, и я впервые услышал Первую и Пятую симфонии Брукнера.
А первое «Кольцо» я услышал, когда был в армии.
— Вы служили?
— Ну, если так можно сказать. Поскольку это были, что называется, «культурные подразделения». Я пошел в армию в начале 70-х, и меня отправили в Иностранный легион, который тогда располагался в Германии. Нам повезло, рядом была Кельнская опера. И командир, который тоже любил оперу, оказался прекрасным компаньоном для походов туда. А позже нам доводилось на уикенд ездить в Штутгарт, чтобы послушать там «Кольцо» в постановке Виланда Вагнера.
Я хочу сказать, что в те времена, чтобы услышать ту или иную оперу, надо было искать театр, в котором она шла. Записей не было, а театральный репертуар не был богат. Скажем, услышать оперы Моцарта в Бельгии было проблемой, как, наверное, сейчас в России. Постепенно ситуация меняется и у вас, но Моцарт по-прежнему звучит редко.
— Да, я помню, как «Митридат» или «Милосердие Тита» с Ливайном в Зальцбурге описывались как своего рода культурный шок…
— Безусловно. В общем, когда я не мог найти название на афишах в Бельгии, я ездил в Германию. И фактически осваивал оперный репертуар благодаря двум труппам — в Дюссельдорфе и Кельне. В 70-е в обоих театрах был невероятный репертуар. Например, в Дюссельдорфе были поставлены и шли в сезоне все оперы Яначека. И еще очень много всего. Уже в 70-е там можно было послушать «Моисея и Аарона» Шенберга или «Солдат» Циммермана.
В целом мое пристрастие к современной музыке сформировалось тогда. Теперь, когда кто-то мне говорит, что не может выучить что-то современное, я отвечаю, что это вопрос умения читать. Ведь для того, чтобы проникнуться красотой, скажем, поэмы Пушкина или Китса, нужно прочесть ее несколько раз. Так же и с музыкой. Я сначала переслушивал несколько раз первый акт «Воццека», потом несколько раз второй, пока эта музыка не сложилась у меня в голове и я не понял, как она прекрасна. На самом деле прекрасное всегда требует от человека работы, чтобы его понять.
Я помню, что в 17 лет я впервые услышал про пьесу Бюхнера (она положена в основу оперы «Воццек» Альбана Берга. — Ред.) от своего профессора в иезуитской школе. А это был 1960 год. Мы проходили Ницше, читали Сартра, Камю, что, конечно, не было строго католическим образованием. И в какой-то момент речь зашла о Бюхнере. Наш профессор спросил, слышал ли кто-нибудь о «Войцеке», я ответил, что знаю «Воццека» Альбана Берга, но не читал Бюхнера, и профессор сказал, что я непременно должен это сделать. Вообще для моего образования эта иезуитская школа была одним из краеугольных камней. Это не было классическим образованием пиетистов — они хотели сделать из нас интеллектуалов. Из этой школы, кстати, вышло огромное количество самых острых критиков Церкви. И еще: для того чтобы учиться там, не нужно было быть аристократом — я, например, был скорее из бедной семьи. Конечно, они хотели, чтобы я стал иезуитом, но я ответил, что это не очень хорошая идея. Хотя в те времена я был очень религиозен.
— А сейчас?
— Сейчас я убежденный антиклерикал. Так или иначе, иезуитская школа плюс возможность бывать за границей дали мне необходимый бэкграунд. Затем я познакомился с директором Flandres Festival и стал ассистентом. А потом состоялась судьбоносная встреча с Кристофом фон Донаньи, с которым мы дружим по сей день. Ему сейчас 82. Когда мы встретились, мне было 24, а ему, вероятно, 47, и он стал моим учителем на долгие годы. Он и Анья Силья, с которой тогда они уже были вместе. В итоге он пригласил меня работать с ним во Франкфурте. Мы ужинали вместе три раза в неделю, и польза от этих вечерних дискуссий была для меня невероятная.
И во многом именно благодаря тем временам сейчас я непременно хочу работать с молодыми. Как говорил Томас Манн — «ты должен отдать свои знания следующим поколениям». И если взглянуть на историю, то, например, содружество Верди и Бойто было похожим — между ними было лет 25 разницы. Вагнер и Ницше — то же самое. Это очень важно для меня — работать в окружении молодых. Например, сейчас это Теодор Курентзис — он принадлежит к тем нескольким молодым талантам, которых я открыл для себя и для публики. Но он совершенно особенный, и сквозь призму его особенного взгляда на партитуры я тоже начинаю постигать те вещи, которых раньше не видел.
 © Javier del Real
© Javier del Real— С преодолением generation gap все более или менее понятно, ну а ровесники?
— Из музыкантов назову прежде всего Сильвена Камбрелена, с которым мы познакомились в Париже и с которым сотрудничаем уже не один десяток лет. Он был тем, кто образовывал меня музыкально. Моим театральным наставником-сверстником был Питер Селларс. Когда мне было 37 и я уже был в брюссельском La Monnaie, именно Камбрелен и Селларс стали моими главными союзниками и очень близкими друзьями.
Я убежден, кстати, что нечто подобное было и у Дягилева, потому что там творили единомышленники.
Конечно, со временем мои контакты расширились, и так получилось, что мне довелось знать почти всех великих композиторов современности.
В Брюсселе я вдохновлялся работами режиссеров своего поколения или старше — Питера Брука, Арианы Мнушкиной, Петера Штайна, Патриса Шеро, Карла Эрнста и Урцель Херманн. А уже в Зальцбурге мы встретились и стали работать с Бобом Уилсоном.
— Все, что вы рассказали о своей молодости, — довольно нетипичный случай для 60-х. Ведь в те времена опера не была территорией интеллектуалов. Скорее наоборот — олицетворяла нечто буржуазное и закоснелое.
— Изначально мое увлечение оперой было чисто эмоциональным. Я любил Верди за его мелодизм. Никогда не любил Пуччини и не очень жаловал французскую оперу. Я обожал Моцарта. В Бельгии его почти не ставили, и эта любовь к Моцарту пришла благодаря Зальцбургу. Первое впечатление от увертюры к «Волшебной флейте», сыгранной там Венскими филармониками, было сногсшибательным. А еще был «Кавалер розы» с Караяном, и, конечно, это было акустическое впечатление на всю жизнь…
Не имея классического образования, я захотел понимать свои эмоции. Мне вообще кажется, что никакая большая любовь невозможна, если ты не стараешься понять, что ты чувствуешь и почему. Тогда страсть перерастает в любовь. И я стал читать… Не только музыковедческие книги, но и современную критику. Современный театр стал моим параллельным увлечением, интерес к современной хореографии пришел позже.
Но должен сказать, что первая половина моего интендантства в Брюсселе не была такой уж интеллектуальной. Я совсем не сразу стал строить планы на сезон, исходя из какой-то театрально-драматургической линии. Но я с самого начала ощущал, что меня отталкивает сама идея чистого бельканто, когда все сконцентрировано только на пении. В 1959 году, когда на сцене царила Каллас, мне было 16 лет, я купил свою первую запись, и это была «Сила судьбы» Верди. С Каллас и Такером. И с тех пор я по-прежнему ее обожаю. Сейчас это скорее старомодный вкус, но в те времена далеко не все признавали за ней гениальность. Большинство моих коллег в оперном мире предпочитали Ренату Тебальди.
Но даже в «Мадам Баттерфляй», в опере, которую я ненавижу всем сердцем и которую Каллас пела только для записи, а Тебальди — всю свою жизнь, я отдаю предпочтение Марии. Поскольку в прощальном монологе Тебальди поет свои слова «Va, joca, joca» («Пойди поиграй, поиграй»), адресованные маленькому сыну, и картинно рыдает белугой (имитирует и смеется), а Каллас поет и ласково, и грустно, и почти не акцентируя, но это значительно сильнее и драматичнее.
И когда я стал изучать этот вопрос, я открыл для себя, что мой любимый Моцарт постоянно говорил о том же. Например, в письмах к своей диве Алоизии Вебер он писал: «Алоизия, пожалуйста, заботься о выразительности больше, чем о красоте».
Так или иначе, это был мой путь, я всегда хотел понимать свои эмоции, а не инстинктивно им следовать. Возможно, именно эта моя особенность заставляет многих людей говорить обо мне как о человеке холодном и дистанцированном. Я не холоден, просто мне всегда сначала нужна пауза, чтобы проанализировать свои эмоции.
— Не так давно вы сказали, что в данный момент наиболее важно заниматься поиском новых дирижеров. Услышать это от Жерара Мортье довольно неожиданно. Ведь традиционно считается, что рецептом Мортье и в Брюсселе, и в Зальцбурге всегда было в первую очередь привлечение новых режиссеров.
— В Зальцбурге искать режиссеров было очень логично, ведь с великими дирижерами там было все более чем в порядке — на тот момент, когда я начинал (к несчастью, когда я покидал свой пост, я уже не мог сказать, что в Зальцбурге есть великие дирижеры). Караян, безусловно, был великим дирижером, но он и приглашал в Зальцбург таких маэстро, как Мета, Мути, Аббадо. Так что во многом работа по привлечению великих дирижеров была уже проделана. Однако к этому вопросу я подходил очень серьезно, и если вы посмотрите на программы тех лет, вы увидите, что этот список был расширен — Шолти, Донаньи плюс такая величина в барочной музыке, как Арнонкур. Затем появились и более молодые маэстро — Салонен, Гергиев.
Но сейчас настал такой момент, когда ощущается острая нехватка больших оперных дирижеров, досконально знающих партитуры, которыми они дирижируют. Мало кто помнит, что тот же великий Караян начинал пианистом-концертмейстером в крошечном Ульме. И, как мне кажется, он стал прежде всего великим оперным дирижером. В опере он был значительно более велик, нежели, например, в Брукнере.
 С Питером Селларсом на пресс-конференции к «Королеве индейцев» © Javier del Real
С Питером Селларсом на пресс-конференции к «Королеве индейцев» © Javier del Real— Хорошо, а что насчет режиссерского кризиса? Не кажется ли вам, что тот тип режиссуры, который, скажем, исповедуют Вилер и Морабито, или Черняков, или Марталер, — этот путь мельчайших психологических мотивировок зашел в тупик?
— Безусловно. А потому мне кажется, что единственный путь, по которому можно двигаться, — это путь, где режиссер и дирижер работают вместе с самого начала. По сути, в Мадриде я сейчас этим и занимаюсь. Скажем, когда Питер Селларс и Теодор Курентзис репетируют вместе и вместе придумывают и музыкальные, и театральные ходы в «Иоланте/Персефоне». Или когда Сильвен Камбрелен все придумывает вместе с Кристофом Марталером или Кшиштофом Варликовским. И даже Петер Конвичный, начавший сейчас двигаться в том направлении, в котором я не могу за ним следовать… Те спектакли, что он делал вместе с дирижером Инго Метцмахером, всегда выгодно отличались от тех, которые возникали без этого тандема.
А потому я никогда не соглашусь возобновлять «Иоланту» без Теодора Курентзиса, поскольку эта продукция — плод совместных усилий. Курентзис играет настолько далеко от общих представлений о Чайковском, что просто невозможно представить себе, что на его месте именно в этом спектакле будет другой дирижер.
— Получается, что сейчас главной задачей интенданта стала работа посредником, медиумом между дирижером и режиссером? А постановка оперного спектакля становится своего рода кинопроизводством, когда невозможно поменять состав участников?
— Да, скорее так.
— Но тогда и менеджмент становится другим, ведь если все концентрируется на поиске единственных и незаменимых, постановка может выдержать всего несколько представлений, а затем либо умирает, либо ждет своего часа несколько лет?
— Да. Но я начал так работать еще в молодости. Во Франкфурте мы поставили прекрасный «Замок герцога Синяя Борода» Бартока с Кристофом фон Донаньи и Клаусом Михаэлем Грюбером, в котором пели Ингвар Виксел и Анья Силья. И я никогда не планировал этот спектакль на те сроки, когда я не мог заполучить оригинальный состав.
В крайнем случае, нужно всю работу с самого начала проделать с двумя составами. По-другому для меня невозможно. Я не человек репертуарного театра.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости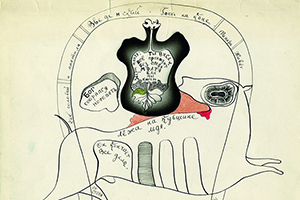 Литература
Литература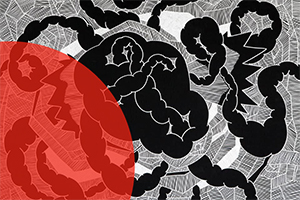 Colta Specials
Colta SpecialsПоэтесса Наста Манцевич восстанавливает следы семейного и государственного насилия, пытаясь понять, как преодолеть общую немоту
20 января 20226148 Искусство
Искусство Искусство
Искусство Молодая Россия
Молодая РоссияРассказ Алексея Николаева о радикальном дополнении для обработки фотографий будущего
18 января 20222291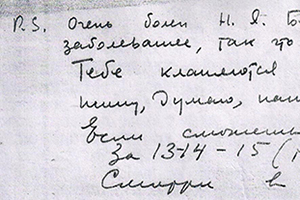 Литература
Литература Общество
Общество Искусство
ИскусствоКуратор Алиса Багдонайте об итогах международной конференции в Выксе, местном контексте и новой арт-резиденции
17 января 20225805 Академическая музыка
Академическая музыка Искусство
Искусство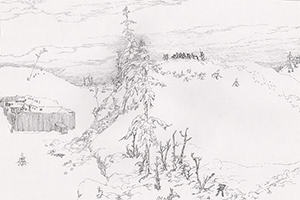 Литература
Литература Общество
Общество
Андрей Мирошниченко о недавнем медиаскандале, который иллюстрирует борьбу старых и новых медиа
13 января 20229185