 Общество
ОбществоАнтифа: что это было? И будет ли вновь?
Текст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги
1 февраля 202212964 © Marco Borggreve
© Marco BorggreveНовым ярким приобретением недавно закончившегося Дягилевского фестиваля в Перми стала Патриция Копачинская, скрипачка молдавского происхождения, европейской выучки, с блестящей карьерой, подчеркнуто нестандартным мышлением и невероятно широким репертуаром, в котором очень заметную часть занимает новая музыка. В Перми она сыграла сольный концерт с пианистом Олли Мустоненом, приняла участие в ночном скрипичном гала, а также исполнила в составе Фестивального оркестра Третью симфонию Малера. Во время фестивальных репетиций с Патрицией Копачинской поговорила Екатерина Бирюкова.
— В твоем графике выступлений между сольными концертами в Гонконге и на Менухинском фестивале в Гштаде — участие в исполнении Третьей симфонии Малера в Перми в качестве концертмейстера…
— …уже не концертмейстера даже. Буду рядом с концертмейстером сидеть — мы сейчас на репетиции так решили…
— И как реагируют на такое экстравагантное поведение твои агенты?
— Ну, это же исключение. И больше всего я волнуюсь именно по поводу этого выхода на сцену в Перми. Смогу ли? И потом, знаешь, быть солистом тоже иногда скучно. Интересно посидеть в оркестре. Но просто в абы какой оркестр не сядешь. Иногда я это все-таки делаю. Например, когда я играю с Херревеге, всегда сажусь после антракта в оркестр — но где-то сзади, прячусь. Недавно Ашкенази дирижировал лондонской Филармонией, играли «Манфреда» — тоже села. Но вот так, чтобы впереди сидеть, какую-то ответственность на себя взять, — это впервые.
— А кто придумал тебе играть на фестивале сольный концерт с Олли Мустоненом? Теодор?
— Да, Теодор. И попал в точку. Я уже давно ужасно хотела поиграть с Олли Мустоненом. Но не получалось. Огромное удовольствие с ним играть. Это же не просто пианист. Это личность.
— Он еще сам музыку сочиняет…
— Вот поэтому он личность. Мне кажется, музыкант не может только на чем-то играть. Это настолько антимузыкально! Из него должно еще что-то выходить. Это сразу слышно по игре, когда исполнитель сам сочиняет. Он говорит тогда о том, что он знает, что он сам прочувствовал, попробовал.
— Ты сама продолжаешь сочинять?
— Ну да, сочиняю. Недавно пыталась написать скрипичный концерт, но получился какой-то реквием. Это нужно мне — иначе закостенеет мозг. Интересно увидеть, как трудно сочинять по-настоящему, как трудно слиться с тем, что ты хочешь сказать. После этого сразу ясно, что такое хорошая музыка. Все должны сочинять. Вот сидеть и сочинять. Можно потом выбрасывать. Не обязательно играть. Может, даже и не надо играть. Но сочинять надо обязательно! Это все равно что люди ходят в ресторан, кушают и не понимают, как это сделано. А когда сам начинаешь готовить, то чувствуешь все приправы.
Вот ты собираешься куда-то на Луну, берешь Бетховена, Перотина, Шуберта и Уствольскую в свой маленький багаж.
— Но исполнитель — извини — часто сочиняет, что называется, руками. Не головой…
— Не всегда. Бетховен тоже был исполнитель, импровизатор. Но он писал не руками. Он писал душой. Многие хорошие композиторы были также и прекрасными исполнителями — Бах, Вивальди, Гендель, Моцарт, Мендельсон, Сен-Санс, Рахманинов…
— Тем не менее существует ведь разделение как бы на две современные музыки. Одна — для известных исполнителей, статусных коллективов, больших залов, для открытия престижных фестивалей. Другая — лабораторная работа внутри композиторского цеха. Все ли надо считать современной музыкой? Иногда ведь это просто перепевание того, что уже есть.
— Ну, так всегда, наверное, было. Не обязательно, чтобы были одни только гении. Всегда рядом было что-то, что жило и питалось их идеями. Но и им помогало развиваться.
— Но все-таки хоть был узнаваемый стиль эпохи. А из того, что пишется сейчас, все ли можно потом будет датировать 2014 годом?
— Мне кажется, да. Оно все сегодняшнее. Что-то смотрит назад, что-то смотрит вперед, что-то никуда не смотрит. Просто пишется само по себе. Но то, что современная музыка везде играется, — это очень хорошо. Пусть даже она не вся хорошая, она держит нас в движении.
Другое дело, что сейчас самое главное — это премьера. Модное слово. А что будет потом с этим произведением? Будет ли оно еще играться? Знаешь, у меня всегда была аллергия на что-то, что становится модным. Вот, например, когда религия была запрещена в Советском Союзе, меня бабушка брала в церковь. И чувствовалась значимость этого…
— Это в Молдавии происходило?
— Да. Я совсем маленькая была. Но это было совсем иначе, чем сейчас. Ты приходил в церковь и знал, что никто тебя по телевидению не покажет. А сейчас, когда все время показывают политиков в церкви, — это мода…
— Расскажи про программу музыки Галины Уствольской, которая сейчас была у тебя на Wiener Festwochen.
— Мы записали Уствольскую с Маркусом Хинтерхойзером (пианист и куратор Wiener Festwochen. — Ред.), которого знала Галина Уствольская лично, она ему написала письмо, где его благодарит. Очень сложно убедить организаторов, чтобы сыграть ее музыку в концерте. Но и у меня, и у Маркуса всегда была мечта ее сыграть. Еще когда я студенткой была, Иван Соколов показал мне эту музыку. А увидела я Уствольскую, когда она приезжала в Берн…
Это было для меня открытием чего-то абсолютного нового и большего, чем то, что я могла себе представить. Эта музыка была частью вечности, настоящей вечности. Которая смотрела во все стороны. И вперед, и назад, это было и будущее, и прошлое. Она соединяла всю эту энергию в один кулак. Такой силой мало какая музыка обладает. После этого было уже смешно играть Шенберга какого-нибудь. И с тех пор это был один из моих больших проектов в жизни — записать то, что есть у Уствольской для скрипки. В Лондоне, в Southbank Centre, мы разговаривали с организаторами по поводу того, чтобы сыграть Уствольскую. Они ее знают, но говорят, что собрать публику очень трудно. Зато на венском фестивале уже за несколько месяцев был распродан концерт!
— А почему же при всей широте твоего репертуара сотрудничество с Теодором в Перми ты начала с концерта Чайковского?
— (Смеется.) Да, интересно, правда? Я раньше не хотела играть Чайковского. И вдруг — я его полюбила! Я его нашла. Или он меня нашел. И начался между нами постоянный разговор. Уже много лет идет. Он перестал меня отталкивать, и мне показалось, что я могла бы ему понадобиться. В каких-то моментах в этом концерте можно что-то еще рассказать. Но для этого нужен правильный партнер. И оркестр. А это очень трудно найти. Вообще, будучи солистом, очень трудно найти дирижера и оркестр, с которыми можно играть так, как будто ты играешь камерную музыку. Для меня это сравнимо с любовью. Ведь очень трудно найти партнера, с которым ты можешь жить, общаться, ссориться. Музыка — она очень хрупкая, так же как и любовь. Сильная и хрупкая одновременно. Если что-то где-то не так — сразу же ломается.
В концерте Чайковского мы с Теодором нашли общий язык — причем за очень короткое время. Мы один раз встретились в Париже, обговорили все, потом очень много общались по мейлу. Потом я впервые приехала в Пермь — это было месяц тому назад, начали играть, и с первой ноты стало ясно, что мы понимаем друг друга.
Я не играю так, как привыкли играть. Меня всегда отталкивал стандарт, правило. Я никогда не доверяла правилам. И всегда спрашивала: а что будет, если я сыграю по-другому? Что значит эта музыка лично для меня? Не для традиции, а для меня и — СЕЙЧАС. Вот я открываю партитуру, и что происходит между этой партитурой и мной? Как эта музыка проходит через меня и как она из меня выходит? Что с ней становится?
 © Дягилевский фестиваль
© Дягилевский фестиваль— Ну вообще-то это любой исполнитель так должен себя спрашивать, нет?
— А почему же тогда так много похожих исполнений?! Неужели мы так все похожи друг на друга? Мне кажется, нужно больше давать себе свободы, позволять себе ее. Но у каждого — своя свобода. Когда я играю с кем-то, я хочу, чтобы мы думали одинаково. И тогда происходит чудо. Именно это чудо я ищу. Но оно может произойти, только если никто друг другу не мешает, никто друг другу больно не делает, когда мы говорим на одном языке и пытаемся расслышать друг друга. Что другой рассказывает? Что другой добавляет? И получается история, которая рассказывается сообща. Тогда энергия правильная. А если один по-своему, другой по-своему — это все не то... Я, наверное, плохо по-русски говорю?
— Нет-нет, все прекрасно понятно. Я вот о чем хочу спросить. Сейчас есть тенденция сталкивать в одной программе произведения (или даже части произведений) разных стилей и эпох. Например, с виолончелисткой Соль Габеттой ты скоро играешь программу, где двухголосные инвенции Баха чередуются с Ксенакисом, Васксом, Кодаем и Равелем. То есть целостность шедевра становится все более размытой.
— Дело в том, что и вся классическая музыка становится размытой. Она не трогает нас больше. Потому что мы все это слышали по десять тысяч раз. И теперь надо придумать, как ее преподнести, в каком контексте, чтобы она стала твоей. И как взять с собой публику в это путешествие. Вот ты собираешься куда-то на Луну, берешь Бетховена, Перотина, Шуберта и Уствольскую в свой маленький багаж. И расставляешь их, и сидишь, общаешься с ними там. Как галерист, который повесит одну картину, рядом другую — и думает, как на них лучше смотреть. Можно выключить свет. Можно даже через лупу посмотреть — вроде перед тобой что-то старое, а видишь вдруг такой авангард! Есть много возможностей. Мне кажется, что нужно возбуждать новые ощущения, иначе мы не чувствуем музыку, не слышим ее. А уж тем более когда все время играется не просто одно и то же, а еще и одинаково. Это становится… не знаю чем…
— Супермаркетом, может?
— Правильно, супермаркетом. А оно должно вырасти в твоем саду. Семечки одинаковые, но деревце вырастет у каждого свое. Потому что у каждого своя земля, свои бактерии, свое прошлое, свое мировоззрение. Например, я из Молдавии. В моей игре всегда будет что-то фольклорное. Всегда. Я даже и не хочу это переделывать. А зачем? Я такая. Я этого не стесняюсь. Наоборот, я считаю, что обогащаю музыку, даю ей какую-то новую жизнь в моем саду, с моим солнцем, с моими приправами. Бог нас сделал такими, какие мы есть. И наша задача — не притворяться другими. Хотя это трудно — быть самой собой. Иногда хочется сбежать от себя.
— Ты бываешь в Молдавии?
— Редко. Мой дедушка умер. Моя родина — уже во мне.
— Ты в Перми тоже играешь босиком?
— Я не отвечаю на этот вопрос. Меня журналисты уже замучили с этим.
— А на барочной скрипке ты играешь?
— Пытаюсь. Это тоже ужасно интересно. Вот недавно играла Моцарта с Рене Якобсом. Как нам было с ним весело! Я всегда думала, что это я просто играю как-то неправильно, что на меня так косо дирижеры смотрят. Как на психически больного. А Якобс, наоборот, мне давал смелость еще дальше и дальше пойти! Вдруг на генеральной репетиции он остановился и начал смеяться. И сказал оркестру: «Если я на концерте остановлюсь и буду смеяться — не обращайте внимания, это нормально, так и должно быть». Это было настолько радостно и жизненно! Я поняла, что я, оказывается, правильно играю Моцарта. Так и надо!
— Хочу спросить насчет игры по нотам. Вот тут, на Дягилевском фестивале, все солисты — Мустонен, Батагов, Любимов — играют не наизусть, как привычно, а глядя на пюпитр.
— И я играю только по нотам. Считаю, что это очень-очень полезно. По крайней мере, в моем случае. Я даю себе волю импровизировать. Ну, импровизировать — конечно, не совсем правильное слово, я играю все те ноты, которые написаны, но… Если подумать — я не приношу готовый торт на сцену. У меня примерный рецепт, как у джазового музыканта, но что по-настоящему получится в конце — я не знаю. И это мне нравится. Я не хочу совершенства. Потому что когда хочешь совершенства — жертвуешь тем главным моментом, когда с тобой происходит какое-то изменение. Ты ему не даешь произойти. Вместо этого следишь за тем, чтобы все сделать правильно.
Когда я была студенткой, то зарабатывала себе на жизнь исполнением современной музыки. В Вене это было. В ансамбле «ХХ век». Нам ставили ноты, и мы с листа играли. То есть нам, конечно, давались ноты заранее, но я никогда этим не занималась, времени не было. Играла с листа. И настолько это было интересно! Это было как книга, которую читаешь. А когда я играла наизусть — ощущение, что я что-то бетонирую. И очень сильный страх был — а не забуду ли я что-то, а правильно ли все будет? Я не хочу этому страху давать жить в себе!
— То есть даже сольные концерты с большим оркестром ты играешь по нотам?
— Да, всегда ставлю себе ноты и в них смотрю. Я даже стараюсь не запоминать наизусть. И тогда мне произведение открывается каждый раз по-новому. Как будто это современная музыка. Вот концерт Чайковского — для меня он сейчас написан. Я его сейчас играю. И каждый раз что-то может поменяться — и аппликатура, и структура, и вдруг новые какие-то картины возникают. И такой дирижер, как Курентзис, чувствует это заранее.
— Вы с ним пока только Чайковского играли?
— Пока что да. Но у меня ощущение, что я играла с ним весь репертуар. Я знаю точно — мы будем всю жизнь играть. Это что-то особенное: встречаешь человека и чувствуешь — ты его знаешь. Как, когда? Непонятно. Шепот из другого мира. Надеюсь, я не выгляжу какой-то эзотерической тетенькой?
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Общество
ОбществоТекст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги
1 февраля 202212964 Академическая музыка
Академическая музыка Литература
Литература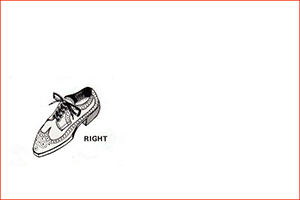 Молодая Россия
Молодая Россия«Говорят, что трех девушек из бара, забравшихся по старой памяти на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства». Рассказ Артема Сошникова
31 января 20221555 Искусство
Искусство Современная музыка
Современная музыка Кино
КиноДенис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат
27 января 20224071 Современная музыка
Современная музыкаТурист, модник, художник и другие малоизвестные ипостаси лидера «Кино» на выставке «Виктор Цой. Путь героя»
27 января 20223885 Молодая Россия
Молодая Россия«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой
27 января 20221593 Литература
Литература Общество
Общество Кино
Кино