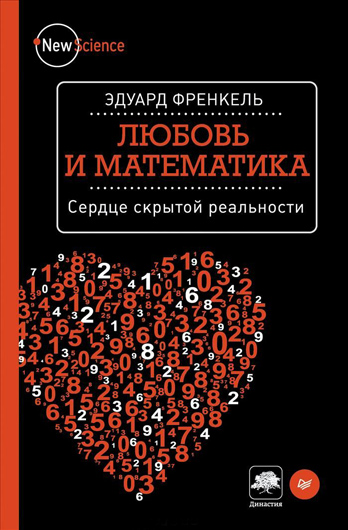Когда 21-летнего Эдуарда Френкеля позвали в Гарвард приглашенным профессором математики, он только оканчивал пятый курс московского Института нефти и газа имени Губкина («Керосинки»). Несколькими годами раньше, в 1984-м, его отказались принимать на мехмат МГУ вместе с другими абитуриентами-евреями (другие известные жертвы этой политики университета — сооснователи «Яндекса» Илья Сегалович и Аркадий Волож). Сейчас Френкель — профессор Калифорнийского университета в Беркли.
Русский перевод книги Френкеля «Любовь и математика» вышел в издательстве «Питер». В 2014 году, сразу после публикации на английском, книга успела попасть в список бестселлеров New York Times, а в 2015-м Математическая ассоциация Америки присудила за нее премию Эйлера. Кроме русского «Любовь и математика» переведена еще на 14 языков, включая японский.
Книга с использованием самых простых формул объясняет нематематикам, как устроена и чем занимается современная математика — в противовес той, которую преподают с первого класса по выпускной курс технического вуза: «Представьте себе, что в школе вас заставляли посещать “уроки искусства”, где вас учили только лишь как покрасить забор и никогда не показывали произведения Леонардо да Винчи и Пикассо. Смогли бы вы при этом научиться ценить искусство? Захотели бы вы узнать о нем побольше? Сомневаюсь». В новом ракурсе Великая теорема Ферма, когомологии пучков, «Обнаженная, спускающаяся по лестнице (№ 2)» Марселя Дюшана и биография самого математика становятся деталями одного сквозного сюжета.
COLTA.RU публикует несколько «нематематических» фрагментов из книги, где Френкель рассказывает, что означало заниматься математикой в Советском Союзе 1980-х и какой был контекст у массовой эмиграции ученых.
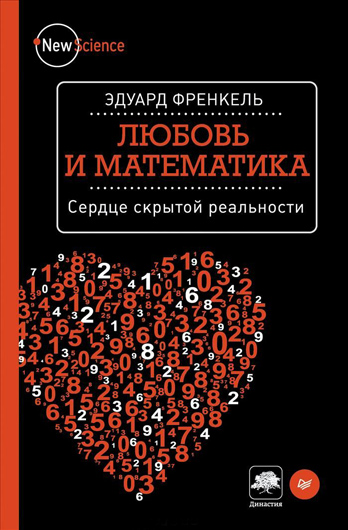 © Издательство «Питер»
© Издательство «Питер»Большинство математиков, посещавших семинар [Израиля Моисеевича] Гельфанда, работали в других местах, не связанных с МГУ. Этот семинар был для них единственным местом, где они могли встретиться друг с другом, узнать о происходящем в математическом мире, поделиться идеями и договориться о совместной работе. Поскольку сам Гельфанд был евреем, его семинар считался одним из «надежных пристанищ» для евреев и даже провозглашался единственным мероприятием в городе (или одним из немногих), в котором могли принимать участие математики-евреи (справедливости ради надо заметить, что многие другие семинары в МГУ также были открыты для публики и проводились людьми, не имеющими предубеждений против каких-либо национальностей). Без сомнения, Гельфанд охотно эксплуатировал славу своего детища.
Антисемитизм, с проявлениями которого я столкнулся на вступительном экзамене в МГУ, был распространен на всех уровнях научной жизни в Советском Союзе. Ранее, в 1960-х и начале 1970-х годов, у студентов еврейского происхождения все же была возможность получить базовое образование на мехмате, несмотря на существование строгих ограничений — «квот». (На протяжении 1970-х и в начале 1980-х годов ситуация постепенно ухудшалась, и к 1984 году, когда я подавал документы на мехмат, у абитуриента-еврея почти не осталось шансов на поступление.)
Однако аспирантура даже в те годы была для таких студентов практически недоступна. Единственным вариантом для еврейского студента, желавшего покорить очередную ступень обучения, была работа «по распределению» в течение трех лет после получения основного высшего образования. Затем его работодатель (чаще всего это должна была быть контора где-нибудь далеко в провинции) мог отправить его в аспирантуру. И даже если еврею удавалось преодолеть это препятствие и получить звание кандидата наук, возможности найти академическую работу по своей специальности в Москве (например, в МГУ) у него не было.
Такому ученому приходилось либо довольствоваться работой где-нибудь в провинции, либо устраиваться в один из множества московских исследовательских институтов, никак или почти никак не связанных с математическими исследованиями. Для жителей других городов ситуация была еще сложнее, так как у них не было московской прописки — в их внутреннем паспорте не было печати о постоянном местожительстве в Москве, а это было обязательное требование для трудоустройства в столице.
Подобной участи не смогли избежать даже самые выдающиеся студенты. Владимир Дринфельд, блестящий математик и будущий лауреат Филдсовской премии, о котором мы подробнее поговорим чуть позже, сумел поступить в аспирантуру мехмата сразу же после завершения основного обучения (хотя я слышал, что организовать это было невообразимо сложно). Однако родом он был из города Харькова на Украине, поэтому найти работу в Москве ему так и не удалось. Он был вынужден взяться за преподавание в провинциальном университете в Уфе — промышленном городе на Урале. Позднее он получил место исследователя в Физико-техническом институте низких температур в Харькове.
Те же, кто принимал решение остаться в Москве, распределялись в такие места, как Институт сейсмологии или Институт обработки сигналов. Их каждодневная работа заключалась в выполнении однообразных вычислений, связанных с конкретной областью промышленности, к которой относился данный институт (хотя некоторым уникумам благодаря их разносторонним талантам удавалось совершить прорыв и в этих областях). Математическими исследованиями, которые были для них настоящей страстью, им приходилось заниматься самостоятельно, в свободное время.
Гельфанду и самому пришлось покинуть пост преподавателя мехмата в 1968 году, после того как он поставил свою подпись под знаменитым письмом девяноста девяти математиков, требующих освобождения математика и борца за права человека Александра Есенина-Вольпина (сына поэта Сергея Есенина), который был по политическим причинам принудительно заключен в психиатрическую больницу. Письмо было так мастерски написано, что после трансляции его по радио Би-би-си гнев мировой общественности заставил руководство Советского Союза почти сразу же освободить Есенина-Вольпина. Однако это, естественно, сильно разгневало власти. Им потребовалось совсем немного времени для того, чтобы найти способы наказать каждого, кто подписал письмо. В частности, многие лишились преподавательской работы.
* * *
Когда Гельфанд попросил меня выступить с рассказом о моей работе, мне представилась возможность увидеть всю «кухню» знаменитого мероприятия изнутри. Тогда же я наблюдал за происходящим с позиции семнадцатилетнего студента, находящегося в самом начале своей математической карьеры.
Во многих смыслах этот семинар был театром одного актера. Официально считалось, что на семинаре тот или иной ученый будет делать доклад на ту или иную тему, но чаще всего выступлениям посвящалась лишь часть семинара. Гельфанд поднимал другие темы и вызывал к доске других математиков, которых не просили подготовиться заранее, для того чтобы они дали свои пояснения. Однако в центре всегда оставался он сам. Он и только он управлял ходом семинара, и в его руках была абсолютная власть: в любой момент он мог прервать докладчика вопросом, предложением, комментарием. У меня в ушах до сих пор звучит его «Дайте определение!» — самое частое замечание в сторону докладчиков.
У него также была привычка произносить продолжительные речи на различные темы (зачастую даже не связанные с обсуждаемым материалом), рассказывать анекдоты, всевозможные истории, многие из которых действительно были весьма занимательными. Именно там я услышал присказку, процитированную во введении: пьянчужка не знает, что больше — 2/3 или 3/5, но он знает, что две бутылки водки на троих — лучше, чем три бутылки водки на пятерых. Одной из отличительных особенностей Гельфанда было умение перефразировать вопрос, заданный другим человеком, так, чтобы ответ сразу же стал очевиден.
Также он любил рассказывать анекдот о беспроволочном телеграфе: «На светском мероприятии начала двадцатого века физика просят объяснить, как это работает. Физик отвечает, что все очень просто. Сначала нужно понять, как работает обычный проволочный телеграф: представьте собаку, голова которой находится в Лондоне, а хвост — в Париже. Вы тянете за хвост в Париже, а собака лает в Лондоне. Беспроволочный телеграф работает точно так же — только без собаки».
Даже если еврею удавалось преодолеть это препятствие и получить звание кандидата наук, возможности найти академическую работу по своей специальности в Москве — например, в МГУ — у него не было.
Рассказав анекдот и дождавшись, пока стихнет смех (смеялись все, даже те, кто уже тысячу раз слышал его до этого), Гельфанд возвращался к обсуждаемой математической проблеме. Если ему казалось, что ее решение требует радикально нового подхода, он добавлял: «Я хочу сказать, что нам нужно сделать это без собаки».
Очень часто он применял на семинарах такой прием, как назначение «контрольного слушателя». Обычно это был кто-то из наиболее молодых членов аудитории, и его обязанностью было периодически повторять, что только что сказал лектор. Если контрольный слушатель хорошо пересказывал услышанное, это означало, что выступающий хорошо делает свое дело. В противном случае лектор должен был сбавить темп и доступнее излагать материал. Бывало даже, что Гельфанд прогонял некомпетентного лектора, заклеймив позором, и заменял его или ее другим ученым из аудитории. (Разумеется, Гельфанд не упускал случая подшутить и над контрольным слушателем.) Все это делало семинары довольно увлекательным времяпрепровождением.
Очень часто семинары проходят неспешно; люди в аудитории просто вежливо слушают (некоторые могут даже задремать), будучи слишком благодушными, слишком вежливыми или просто слишком робкими для того, чтобы задавать докладчику вопросы. Вряд ли они много выносят из таких семинаров. Без сомнения, рваный ритм семинаров Гельфанда, как и авторитарный характер самого ученого, не только не позволял людям заснуть (что само по себе было нетривиальным, учитывая, что семинары нередко заканчивались за полночь), но и служил для них огромным стимулом — этого попросту невозможно ожидать от других семинаров. Гельфанд предъявлял к докладчикам высокие требования. Они усердно работали — и он тоже. Как бы люди ни отзывались о стиле Гельфанда, никто никогда не уходил с его семинара с пустыми руками.
Тем не менее мне кажется, что подобный семинар мог существовать только в тоталитарном обществе — таком, как Советский Союз. Люди были привычны к диктаторским замашкам, характерным для Гельфанда. Он мог проявлять жестокость, даже оскорблять окружающих. Не думаю, что на Западе многие стали бы терпеть такое обращение. Однако в Советском Союзе это не считалось чем-то из ряда вон выходящим, и никто не протестовал. (Еще один знаменитый пример такого рода — семинар Льва Ландау по теоретической физике.)
* * *
Однажды Виктор Кац позвонил мне домой в Кембридж и сообщил, что кто-то пригласил Анатолия Логунова, ректора Московского университета, прочитать лекцию на физическом факультете MIT (Массачусетского технологического института. — Ред.). Кац и многие его коллеги были вне себя от негодования из-за того, что MIT собирался предоставить площадку для выступления человеку, несущему самую непосредственную ответственность за дискриминацию абитуриентов-евреев на вступительных экзаменах в МГУ. Кац и многие другие считали, что его действия были сродни преступлению и подобное приглашение было попросту возмутительным.
Логунов был очень могущественным человеком: он был не только ректором МГУ, но также директором Института физики высоких энергий, членом Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и обладателем множества званий и привилегий. Однако зачем кому-то в MIT могло понадобиться приглашать его? Как бы то ни было, Кац и несколько его коллег заявили свой протест и потребовали отменить визит и лекцию. Путем упорных переговоров было достигнуто компромиссное решение: Логунов приедет и прочитает лекцию, но после лекции состоится публичное обсуждение ситуации в МГУ, где у желающих будет возможность напрямую высказать ему свое мнение и претензии относительно дискриминации. Должно было состояться что-то вроде народного вече.
Он мог проявлять жестокость, даже оскорблять участников семинара. Не думаю, что на Западе многие стали бы терпеть такое обращение. Однако в Советском Союзе это не считалось чем-то из ряда вон выходящим, и никто не протестовал.
Естественно, Кац попросил меня как непосредственного участника событий, происходивших в МГУ под предводительством Логунова, прийти на встречу и рассказать свою историю. Я не был уверен, стоит ли это делать. Я не сомневался, что Логунова будут сопровождать «помощники», фиксирующие каждое слово. Шел май 1990 года, и до неудавшегося путча августа 1991 года, с которого начался развал Советского Союза, оставалось еще более года. Я же планировал на лето приехать домой. Если я скажу что-то нелестное о такой высокопоставленной персоне, какой был в Советском Союзе Логунов, проблем будет не избежать. Как минимум мне могут запретить покидать СССР, и я не смогу вернуться в Гарвард. И все же я был не в силах отказать Кацу. Я знал, насколько важными мои свидетельства будут на этой встрече, поэтому передал Виктору свое согласие. Кац пытался успокоить меня:
— Не беспокойтесь, Эдик, — говорил он, — если они посадят вас за это в тюрьму, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вытащить вас оттуда.
Молва о предстоящем событии быстро распространилась, и конференц-зал, в котором должна была состояться лекция Логунова, был забит до отказа. Люди пришли не для того, чтобы узнать из этого выступления что-то новое. Все знали, что Логунов — слабый физик, построивший свою карьеру на попытках опровергнуть теорию относительности Эйнштейна (интересно, почему). Как и ожидалось, его лекция — о его «новой» теории гравитации — оказалась малосодержательной. Однако во многих отношениях она была довольно необычна. Прежде всего, Логунов не говорил по-английски. Он читал лекцию на русском языке, а синхронный перевод осуществлял высокий мужчина в черном костюме и галстуке, чей английский был безупречен. С тем же успехом ему можно было написать на лбу «КГБ» большими печатными буквами. Его клон (как в фильме «Матрица») сидел в зале и внимательно осматривал присутствующих.
До начала выступления один из сотрудников MIT, ведущий мероприятие, представил Логунова весьма специфическим образом. Он показал с помощью проектора первую страницу опубликованной за десятилетие до этого статьи на английском языке, авторами которой помимо Логунова были еще несколько человек. Вероятно, он ставил целью продемонстрировать нам, что Логунов не полный идиот и что его перу действительно принадлежат публикации в рецензируемых научных журналах. Я никогда не видел, чтобы кого-нибудь представляли подобным образом. Было очевидно, что Логунова пригласили в MIT не в знак признания его научных талантов.
Во время лекции никаких возгласов протеста не раздавалось, хотя Кац распространил среди аудитории копии некоторых компрометирующих документов. Одним из них был табель успеваемости студента с еврейской фамилией, который учился в МГУ лет за десять до этого. По всем предметам у него были пятерки, и все же там было написано, что на последнем курсе его отчислили «за неуспеваемость». В короткой записке, прикрепленной к табелю, говорилось, что этот студент был замечен в московской синагоге специально отправленными туда агентами.
После лекции участники дискуссии перешли в другое помещение и расселись вокруг большого прямоугольного стола. Логунов сидел у одного из углов, защищенный с обоих флангов двумя «помощниками» в штатском, выполнявшими также функцию переводчиков. Кац и другие обвинители выбрали места прямо напротив него. Я с несколькими друзьями тихонько сидел у другого края на той же стороне, что и Логунов, поэтому тот не обращал на нас особого внимания.
Все знали, что ректор МГУ Логунов — слабый физик, построивший свою карьеру на попытках опровергнуть теорию относительности Эйнштейна.
Первыми слово взяли Кац и его коллеги. Они заявили, что слышали много историй о том, как абитуриентам еврейской национальности отказывают в зачислении в МГУ, и попросили Логунова как ректора Московского университета прокомментировать это. Разумеется, тот решительно отрицал все обвинения, какие бы примеры ни приводили его оппоненты. В какой-то момент один из людей в штатском сказал по-английски:
— Знаете, профессор Логунов — очень скромный человек, поэтому я скажу вам то, в чем он сам никогда бы не признался. На самом деле он помог многим евреям построить карьеру.
Другой человек в штатском обратился к Кацу и остальным:
— Либо представьте доказательства, либо давайте расходиться. Если у вас есть конкретные случаи, которые вы хотите обсудить, мы слушаем. В противном случае давайте закончим это обсуждение, поскольку профессор Логунов — очень занятой человек и у него есть другие дела.
Естественно, Кац ответил:
— У нас действительно есть конкретный случай, и я хотел бы поговорить о нем, — он указал рукой на меня.
Я поднялся. Все повернулись ко мне, включая Логунова и его «помощников», на лицах которых появились следы беспокойства. Я смотрел прямо на Логунова.
— Очень интересно, — сказал Логунов по-русски. Эти слова предназначались для всех присутствующих, и их должны были перевести. А затем он добавил, обращаясь лишь к своим помощникам (совсем тихо, но все же я расслышал): — Не забудьте записать его фамилию.
Признаться, я немного испугался, но отступать было некуда — мы достигли точки невозврата. Я представился и сказал:
— Меня завалили на вступительных экзаменах на мехмат шесть лет назад.
Затем я кратко описал произошедшее на экзамене. В комнате повисла тишина. Это был тот самый «конкретный» случай, представленный из первых рук реальной жертвой политики Логунова, и у ректора не было никаких шансов опровергнуть мои слова. Два помощника бросились на помощь шефу, чтобы как-то исправить ситуацию.
— Значит, вас завалили в МГУ. И куда вы подали документы после этого? — спросил один из них.
— Я пошел в Институт нефти и газа.
— Он пошел в «Керосинку», — перевел помощник Логунову. Тот ответил энергичным кивком — конечно же, он знал, что это было одно из немногих мест в Москве, куда принимали абитуриентов вроде меня.
— Что ж, — продолжил человек в штатском, — возможно, конкурс в Институте нефти и газа был не таким высоким, как в МГУ. Потому-то вы туда и поступили, а в МГУ не прошли.
Это было неправдой: я достоверно знал, что среди тех, кто не подвергался дискриминации, конкурс на мехмат был совсем небольшим. Мне говорили, что для поступления достаточно было получить одну четверку и три тройки на экзаменах. Конкурс на вступительных экзаменах в «Керосинку», наоборот, был очень высоким.
В этот момент снова заговорил Кац:
— Будучи студентом, Эдуард достиг значительных успехов в своей математической работе, и его позвали в Гарвард в качестве приглашенного профессора, когда ему был всего двадцать один год — и пяти лет не прошло с того провального экзамена. Или вы предполагаете, что конкурс на место в Гарварде также был ниже, чем на вступительных экзаменах в МГУ?
Продолжительное молчание. Затем внезапно Логунов оживился:
— Я возмущен этим! — завопил он. — Я проведу расследование, и виновные будут наказаны! Я не позволю, чтобы подобное происходило в стенах МГУ!
И так он бушевал в течение нескольких минут.
Что можно было сказать в ответ? Никто из сидевших за столом не поверил, что гнев Логунова искренен и что он на самом деле предпримет какие-то действия. Логунов был хитрым человеком. Инсценировав негодование из-за одного случая, он избежал ответа за куда большую проблему: тысячи других студентов были безжалостно отвергнуты в результате тщательно продуманной политики дискриминации, очевидно, одобряемой всем высшим руководством МГУ, включая самого ректора.
Понравился материал? Помоги сайту!
 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизия