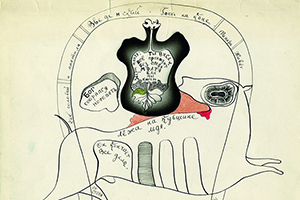 Литература
ЛитератураФилософ и художник: Яков Друскин и Михаил Шемякин
Недавно в свет вышла книга «Мир аутизма. 16 супергероев». Ее автор, историк и лечебный педагог Алексей Мелия, многие годы работает с аутичными детьми. Наблюдения за разными формами глубоких нарушений социализации, опыт их преодоления привели его к неожиданным выводам. Мелия утверждает, что проникновение в миры людей с тяжелой психической патологией позволяет взглянуть под новым углом на жизнь человеческого общества и его историю.
В своей книге Мелия рассказывает о глубокой связи душевных заболеваний и «нормального» социума. Речь идет о самых разных явлениях нашей жизни — от политической идеологии до повседневных бытовых практик. Подход работает в обе стороны — он также позволяет иначе увидеть психически больных людей, понять ценность их переживаний.
Пафос Алексея Мелии в том, чтобы отобрать у науки монополию на безумие, вернуть людям «мир аутизма», который, по утверждению автора, всегда присутствует в жизни общества как важнейший ресурс. Он рассказывает о «мире аутизма» как о сказочной стране, населенной супергероями. С Мелией поговорили Шура Буртин, Миша Яшнов и Юрий Чеботарев.
— Кто такие супергерои в вашей системе?
— Это устойчивые, базовые формы поведения. Они существуют в культуре как универсальные сюжеты и их персонажи.
— Например?
— Известный супергеройский ход в культуре ХХ века — образы буржуазии и пролетариата. Это яркий визуальный код: вот есть черный буржуй, а есть красный пролетарий. На плакатах, очень похожих на комиксы, с помощью таких супергероев объясняли все происходящее. Допустим, идет война с Польшей: где эта Польша, в чем конфликт — люди не знают. Но если там буржуй, а здесь пролетарий, то сразу все понятно.
— Но разве это не устаревшая, скажем, чисто советская мифология?
— Супергеройская вселенная из двух персонажей — это древний, веками испытанный способ объяснения самых разных явлений. Культура вновь и вновь порождает такие истории глобального противостояния — добра и зла, демократии и тоталитаризма или, скажем, Повстанцев и Империи в «Звездных войнах».
— И при чем здесь душевные болезни?
— В патологических переживаниях этот мотив постоянно повторяется. Такое расстройство называется «манихейским бредом». Больной в своих галлюцинациях попадает в мир, где он участвует в битве двух космических сил. В его видениях возникает как бы собственная символическая система, мифология. У больного просто нет никаких других измерений реальности, он переживает эту вселенскую войну и свою в ней роль всем своим существом. А ведь политическая идеология тоже стремится нечто подобное сделать со своими адептами.
Психиатр Гильбурд приводит в пример больного, который в психозе отрубил себе руку, — его посетило озарение, что это спасет мир от катастрофы. И это тоже распространенный культурный сюжет — самопожертвование ради великой цели. Причем есть он не только у людей.
— Разве что-то подобное бывает и у животных?
— Даже у самых примитивных. Например, амебы, которые живут себе в луже, прекрасно размножаются. Но лужи постоянно пересыхают. И тогда у амеб запускается следующая программа: они начинают соединяться друг с другом и сливаются в так называемый псевдоплазмодий, похожий внешне на улитку. Из него растет ножка с шариком на конце — плодовое тело. И амебы, которые оказываются сверху, превращаются в споры и куда-то улетают, в новую жизнь. У них появился шанс продолжить свой род. А те амебы, которые образовали саму ножку, погибают. Ну вот, собственно, тот самый сюжет: героические амебы пожертвовали собой ради светлого будущего, в которое сами они не попадут.
— То есть в амебах тоже есть что-то «советское».
— Мы это воспринимаем так, потому что мы — постсоветские люди. На самом деле здесь тоже присутствует универсальный нарратив, который уходит в самую глубину эволюции. Амебы объединяются, некоторые жертвуют собой — иначе погибнут все, так что понятно, почему такое поведение эволюционно закрепилось. А у людей те же адаптационные механизмы отражаются в каких-то символических формах, идеях: становитесь сплоченнее, жертвуйте собой — иначе нас всех уничтожат и поработят. Есть фундаментальные формы поведения, зашитые в нас с помощью биологического кода, за ними стоят миллионы лет в борьбе за жизнь. А если вернуться к психическим болезням, то в них такие схемы поведения выходят на поверхность, хотя кажутся другим совершенно неадекватными. Часто именно они расцениваются окружающими как болезнь. Но и там, и тут оживают древние супергерои.
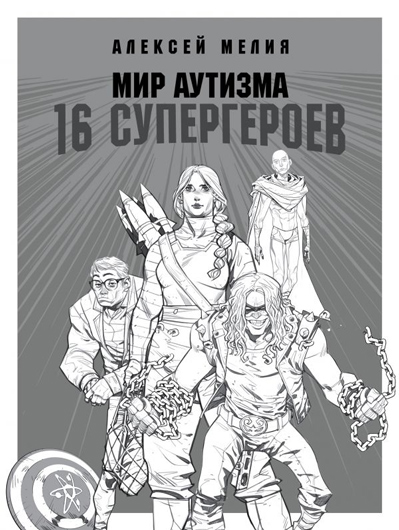 © Эксмо
© Эксмо— И эти герои всегда жертвуют собой?
— Нет, они ведут себя по-разному. Один вариант — образовать сплоченную группу и бороться, жертвуя некоторыми особями ради общего результата. Другой — минимизировать усилия, ресурсы и выживать, ничего особо не делая. Это тоже адаптационная стратегия. В луже среди тех же амеб такие особи тоже есть, и в большом количестве. Причем внутри группы лучше выживают те, кто предпочитает личные интересы общественным. Но если эгоистов станет слишком много, то могут погибнуть все. И у амеб, и у людей вся история — это судьба таких групп и их адаптационных стратегий, то есть битва супергероев.
— И в современной жизни это присутствует тоже?
— Ну конечно. Вот произошло какое-то политически нейтральное событие — сгорел, допустим, торговый центр. Люди в соцсетях начинают генерировать тексты, и мы сразу в них видим воспроизводство определенных нарративов. Кто-то пишет, что за этим стоят «враги». Мы сидим и толком не знаем, что произошло, а «они», эти враги, отличаются тем, что всё знают, умеют, раз устроили такое. То есть «они» уже находятся в состоянии сплоченной, сильной группы. А наше сообщество — допустим, русский народ — в ответ должно тоже объединиться, активизироваться, иначе враги нас уничтожат, отберут ресурсы.
И будут другие тексты: все плохо, наверху тираны, внизу рабы, всюду запустение, изменений не предвидится. Одни тексты описывают мир героической борьбы, другие — мир трагической безнадеги.
Почему правы и те, и другие? Потому, что эти нарративы существуют независимо от того, что же конкретно произошло. И каждая из этих моделей поведения по-своему эффективна. В каком-то смысле истинны не те истории, которые соответствуют действительности, а те, которые лучше передаются потомкам, то есть поддерживаются средой. Как говорят марксисты, «практика — критерий истины». И это тоже можно связать с работой биологического кода, с древним эволюционным опытом.
И сходные нарративы регулярно генерируются людьми, которых запирают в психиатрических больницах. Формы коммуникации в соцсетях похожи на психиатрические образы. Первый, связанный с подозрением, врагами и с их происками, близок к классической паранойе. А второй, образ безысходности, — к депрессии, меланхолии.
— Значит, все сторонники теории заговора — параноики? Просто их еще не забрали?
— Здесь все более хитро. Швейцарский психиатр Эйген Блейлер считал, что у мифологий, возникающих в человеческом коллективе, есть другая сторона: это как раз воображаемые миры, в которые погружаются психически больные люди. Это состояние Блейлер и называл «аутизмом». Он считал, что единые мотивы повторяются и в безумии, и в мифологических переживаниях целого общества. Мы же видим, как часто история используется для доказательства неких устойчивых истин. Это делают люди, которых считают совершенно здоровыми. Но сам этот принцип, важный для жизни общества, похож на безумие. Мне кажется, что коллективное мышление и клинический аутизм взаимодействуют.
— То есть душевнобольные влияют на общество?
— Как ни странно, да. И не только тогда, когда становятся признанными лидерами (изредка бывает и такое). Именно поведение рядовых душевнобольных несет в себе эволюционно обусловленные стратегии подчас в самом чистом виде — и оно повсеместно и регулярно в течение тысячелетий демонстрируется человечеству. Любое поведение (в том числе душевнобольных) с какой-то вероятностью копируется, входит в культуру. Возможно, в этом тоже есть своя эволюционная логика — таким способом человечество сохраняет все богатство своих адаптационных моделей. Даже тех, которые в данный момент неактуальны. Этот способ на первый взгляд кажется чересчур мудреным, но, видимо, он эффективен.
Группа, подхватившая коллективную паранойю, ощущает, что окружена врагами, она переживает собственное величие и величие своего вождя. В условиях реальной опасности в этом есть своя выгода. Коллективная депрессия — это минимизация усилий, в какой-то период она тоже способствует выживанию. Общество перенимает не саму болезнь, а нечто, что помогает ему выжить. Это смысловое и поведенческое ядро и есть психиатрический образ. У меня была и остается возможность хорошо изучить такие образы на материале собственной работы.
— В Центре лечебной педагогики?
— Да, и в детской психиатрической больнице тоже, в психоневрологических интернатах. Я вижу разнообразие людей с нарушенной социализацией: их миры разнообразны примерно так же, как социальные практики и культурные герои. Это относится и к детям с тяжелыми нарушениями развития, и к людям, которые заболели уже во взрослом возрасте. И во всех них есть что-то, что открывает двери в какие-то очень подлинные миры.
Равноправие истин — это главное впечатление от столкновения с мирами тяжелой психической патологии. Бессмысленно подходить к человеку и убеждать, что сходить с ума нужно было как-то по-другому.
Но здоровые люди тоже несут в себе как бы зародыши этих образов. Работая с аутистами, я нахожусь в позиции преподавателя, то есть считаюсь человеком психически здоровым. Но есть больные, с которыми у меня возникает явный резонанс, я их хорошо понимаю, хотя это совершенно асоциальные, неговорящие дети. Работать мне с ними проще. А у другого преподавателя такой резонанс может возникать с другим типом больных. То есть наши собственные природные задатки лучше резонируют с каким-то определенным психиатрическим образом. Думаю, именно поэтому здоровые члены общества с большей готовностью отзываются на те или иные социальные тенденции вроде той же теории заговора.
— И этих образов столько же, сколько существует диагнозов?
— Нет. Вообще современный набор диагнозов постоянно реформируется и изменяется. Нынешнее отношение к диагнозам появилось во второй половине XX века. Сейчас от диагностической системы требуют, чтобы она была максимально удобна для статистического учета. В первую очередь, это нужно страховым компаниям — для назначения пенсий, больничных, получения инвалидности и т.п. Кроме того, для врачей так проще исследовать большие выборки, проверять эффективность препаратов. В таком подходе тоже есть своя ценность, но если он начинает доминировать, то это приводит к формализму, конвейеру, таблицам с галочками. Самые простые проявления болезни абсолютизируются, их внутренняя связь теряется, а иногда за этим теряется и суть дела вообще.
Лучший пример — само понятие «аутизм». В нынешнем своем смысле этот термин очень сильно оторвался от той основы, которую заложили в него его создатели. Возможно, что сегодня психиатры хуже понимают, что такое «аутизм», чем это было в ХХ веке. Классический психиатр был в большей степени натуралистом, чем сегодняшний. И для понимания базовых форм поведения лучше использовать старые тексты. В них описаны самые содержательные психиатрические образы — обобщенные портреты больных, их поведение. Например, образ паранойи, меланхолии или олигофрении.
Моя классификация супергероев как раз построена на основе карты психических расстройств, которую я беру у классиков и совмещаю с концепцией эволюционно-стабильных стратегий — по типу истории про амеб. Отцом-основателем здесь считается биолог Эдвард Уилсон, серьезный вклад внес биолог Джон Мейнард Смит.
— Так сколько у вас получилось супергероев?
— У меня их 16. Эта классификация создает сетку, которая позволяет покрыть почти все формы поведения. И достаточно целостно описывает как мир безумия, так и условно нормальную культуру.
— А можно про какого-нибудь супергероя подробнее?
— Мой любимый супергерой — Механик. Он соответствует кататонической шизофрении. Больные-кататоники способны выполнять повторяющиеся действия с патологической настойчивостью, не имеющей аналогов. Это могут быть внешне бессмысленные действия — перестановка каких-нибудь ненужных предметов, например, — но для больного они важнее всего на свете. Один запомнившийся мне пациент был настоящим служителем абсолютного порядка. В культуре такая механическая практика связана с тотальным ритуалом и соответствующей ему идеологией. Это, например, религиозный фундаментализм, который хочет распространить себя, стать абсолютом. Религиозная практика всегда связана с ритуальными движениями, с правильным порядком действий. Марксизм, большевизм — все это сюда. Того же хочет какая-нибудь научная теория — распространить свое влияние на весь мир. Ее активные носители просто не могут остановиться. Общество в определенный момент это подхватывает. В результате группы с противоположных сторон сходятся в священной войне. «Механики», движимые своим супергеройским началом, могут совершать самые разнообразные действия, даже вполне утилитарные. Например, копать землю и сеять зерна. Но это будет не просто работа, а одновременно и ритуальная практика. Как, скажем, священная война между мичуринцами и вейсманистами-морганистами: с писаниями, мучениками — как положено жрецам.
— А есть ли здесь какие-то национальные особенности?
— Если мы возьмем нашу культуру, то образ русского человека — это супергерой Богатырь, конфликтный астеник. Здесь я использую классификацию Ленинградской школы: психиатры, оставшиеся в блокадном Ленинграде, описали психоз истощения — крайней усталости. У одного психиатра есть такой образ: усталость, не знающая покоя. Это когда человек от утомления делает освоенные и хорошо знакомые, повторяющиеся действия. Все они самые обыденные, бытовые, только на них и хватает сил.
Вот Богатырь — это такой представитель народа, наполняющий своим желанием повторяющиеся бытовые практики. Чтобы экономить силы, ему нужно жестко поддерживать существующий обыденный порядок. Потому что его нарушение, освоение всего нового слишком для него затратны.
Посадили зерно, оно выросло, его убрали, вырастили детей. Эти циклы повторяются, повторяются, повторяются… Это не работа энтузиастов и не символический ритуал, а тяжелый труд, рождающий постоянную усталость. От имени этого труда и этой усталости отец семейства поучает детей: я ради вас пахал, лил пот… Вокруг истощения, усталости выстраивается бытовая мифология. Богатырь истощает и всех окружающих тоже — он поучает, как надо правильно поддерживать быт, правильно проводить свадьбы: нужны шкафы, стенки, ковры, чтобы было не хуже, чем у людей. Верное воспроизводство этого культурного кода требует огромных усилий, гигантских ресурсов — наверное, больше, чем какой-нибудь ВПК. И здесь еще труднее понять, зачем все это нужно: у ВПК есть, по крайней мере, военная доктрина…
Говорят: вот народ подымется. Но он не стремится нести свою идею по всему миру. У него и идеи-то нет. Это Механик старается распространить как абсолют свои ритуальные движения. А Богатырь ничего этого не хочет. Победив, он просто возвращается домой, восстанавливает разрушенное и продолжает жить по-старому.
— И что же, мы все такие?
— Нет, культура устроена таким образом, что мы вызываем силу разных супергероев, чтобы решать разные адаптационные задачи. Обучая детей квасить капусту и «жить как люди», мы как бы призываем им на помощь Богатыря. Чтобы он давал им силу тянуть эту лямку повседневности. И этот мифический Богатырь, работая в их сознании, будет осуждать всяких жуликов. Всех тех, кто рушит устои, добивается выгоды поперек правил. Но Богатырь очень скучен. Приходить с тяжелой работы и смотреть «Сельский час» — это как-то уж совсем беспросветно.
Но если стены стоят, вареная колбаса в холодильнике есть, то можно вызвать и какого-то другого супергероя. Например, Танцора — я так называю аффективного кооператора, связанного с образом истерии. Он наполняет желанием, например, мир эстрадных звезд. Он там как-то красуется, безобразничает — и в то же время учит быть индивидуальностью, свободным человеком. Благодаря Танцору людям есть что обсуждать.
— А бывают ли настоящие супергерои — те самые, которые спешат на помощь?
— Так они все спешат, но в разных ситуациях. Если вокруг враги, то эффективно собрать команду из конфликтных супергероев. Механик (конфликтный шизофреник) скажет «выполняйте приказы», сделает машину из винтиков, которая будет по алгоритму все давить. Это массовый, обезличивающий супергерой — как и Богатырь. Но появится и индивидуальный супергерой, такой полковник во время Бородинской битвы: он сверкает очами, говоря о смерти, притягивает к себе внимание, ведет за собой, возбуждает, активирует. Это Воин, аффективно-конфликтный тип, связанный с образом паранойи — болезни, при которой отдельный герой, окруженный врагами, понимает свое величие.
— Вообще это же всё какие-то архетипы. Почему вы называете их супергероями?
— Метафора супергероя нужна мне, чтобы избежать давящей серьезности, которой в психиатрической области очень много. Эта серьезность иногда связана с имитацией знания. Не зная, что происходит, просто говорят что-то с ученым видом. Я постоянно вижу, как диагностические ярлыки, которым придают все больше значения, закрывают собой человека. А мне важно преодолеть культурную, информационную изоляцию мира безумия. И супергерои должны в этом помочь.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости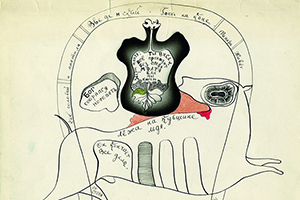 Литература
Литература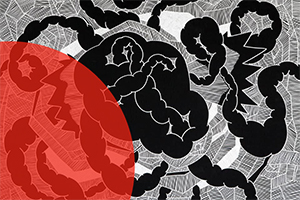 Colta Specials
Colta SpecialsПоэтесса Наста Манцевич восстанавливает следы семейного и государственного насилия, пытаясь понять, как преодолеть общую немоту
20 января 20222499 Искусство
Искусство Искусство
Искусство Молодая Россия
Молодая РоссияРассказ Алексея Николаева о радикальном дополнении для обработки фотографий будущего
18 января 20221819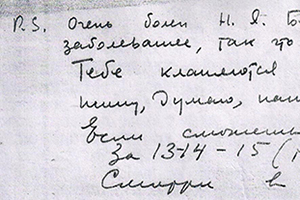 Литература
Литература Общество
Общество Искусство
ИскусствоКуратор Алиса Багдонайте об итогах международной конференции в Выксе, местном контексте и новой арт-резиденции
17 января 20222197 Академическая музыка
Академическая музыка Искусство
Искусство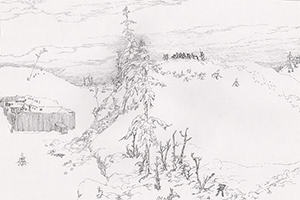 Литература
Литература Общество
Общество
Андрей Мирошниченко о недавнем медиаскандале, который иллюстрирует борьбу старых и новых медиа
13 января 20225353