 Искусство
ИскусствоВоображать технологически
Беседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science
2 февраля 20229239 © Jean Louis Fernandez
© Jean Louis FernandezОдним из центральных событий французского театрального сезона стала премьера новой работы Анатолия Васильева — «Рассказа неизвестного человека», поставленного в Национальном театре Страсбурга и с успехом показанного впоследствии в Париже на сцене театра MC93 Bobigny. Постоянный соратник выдающегося режиссера Наталья Исаева продолжает цикл рассказов о постановках Анатолия Васильева за рубежом, начатый в прошлом году текстом о новой версии «Медеи» Хайнера Мюллера.
Всего несколько дней как вернулась после всех наших гастролей. Ну, пора, что ли, поговорить и об этом спектакле — которым занималась с лета, с которым больше всего было связано тревог и напряжений. Теперь есть смысл написать, поскольку спектакль продолжал расти и меняться — даже после отъезда Васильева. Там изначально была уже вставлена такая порождающая матрица, разворачиваясь, пружинила — сама и подталкивала актеров — сама.
Критики всегда подчеркивают, что Чехову трудно давался этот «Рассказ неизвестного человека». Он несколько раз переписывался автором, несколько раз менял название. Повесть вышла в «Русской мысли» в двух выпусках — февраля и марта — 1893 года, причем даже перед самой публикацией Чехов долго подыскивал подходящее название; из письма, адресованного Любови Гуревич, мы знаем, что первые наброски относятся еще к 1887 году, да и в переписке с издателем одним из вариантов заголовка были как раз «Восьмидесятые годы»… Посередке, как известно, лежит Сахалин — и именно там Чехов встречает главного вдохновителя для образа своего центрального персонажа — народовольца и политкаторжанина Ивана Ювачева, мичмана имперского флота, любителя корабельных походов за три моря, будущего отца знаменитого обэриута Даниила Хармса… Да и сам Чехов возвращался с Сахалина кораблем, заходившим в Гонконг и Сингапур, в Коломбо и Порт-Саид…
Вот и Васильев служил когда-то на Тихоокеанском флоте, Ювачев же был картографом и метеорологом (и бунтовщиком — а потом православным писателем). Неизвестный в благословенных Ницце и Венеции вспоминает о путешествии вокруг света, ему, пожалуй, ближе не французские книжки, но тропический лес и восход солнца над Бенгальским заливом… Разомкнутый мир, гнутый, круглый шарик, где западная цивилизация вдруг ухает, проваливается в мутную пелену Востока. Если уж выбирать — после неудачных революций и съедающих сердце разочарований, — где мы, куда плывем, напрасно вспоминая о том, как — было время — «иные парус напрягали»…
Васильев ведь и сам затевал этот проект еще несколько лет назад, как раз с парижским Théâtre de la Ville, а потом — со своими венецианскими студентами, молодыми актерами и режиссерами Isola della Pedagogia, еще позже — со стажерами Института Гротовского во Вроцлаве. Всякий раз для него рядом стояли несколько повестушек Чехова (тех длинных, «достоевских» рассказов наподобие нашего «Неизвестного» или же «Дуэли») и мало ставившаяся, почти неизвестная пьеса Пиранделло «Прививка» («L'Innesto»). Тогда же, лет пять или шесть назад, он начал писать свою сценическую версию чеховского текста. Я видела первоначальный вариант тогда же, но настоящая работа свалилась, пожалуй, с ноября: и речь шла не просто о переводе на французский и доработке текста с актерами. В конечном счете этот «вариант для сцены» втянул в себя множество других, параллельных, отрывков — из чеховского «Платонова», из Захер-Мазоха и маркиза де Сада, из Достоевского, из французских воспоминаний Петра Кропоткина. Да так еще, по мелочи, хотя бы из Грибоедова…
Для меня это лоскутное одеяло, служившее нам парусом, казалось вполне близким, пожалуй, даже узнаваемым… Вообще Васильев в изгнании — уж не знаю толком, в послании или же просто в путешествии — особая история… у этой лодочки оказался свой маршрут. Почти исключительно западный материал: маркиз д'Аржан (повлиявший на того же де Сада), две пьесы Маргерит Дюрас, возобновление «Медеи» Хайнера Мюллера — или вот этот Чехов, обожженный солоноватым ветром странствий, выламывающийся из уютного мира запущенной усадьбы, плюшевых гардин салона, чаепитий и обветшалых, но таких близких и привычных европейских идей просвещения на русский лад.
Я уже говорила о внутреннем сходстве этих «спектаклей странствий», рожденных в скитаниях и из скитаний.… Пока Васильев оставался в стерильных пространствах своей московской «Школы драматического искусства», пока его метафизика питалась в основном православной теологией и православной же эстетикой, путь был ясен: вверх, в возвышенный, разреженный воздух игровых структур и вербального тренинга, в линейные правила чистой Речи… Но во Франции, где слово издавна почитаемо иначе и по-другому, где риторика звенит и отзывается слишком холодным эхом, ему вдруг захотелось вернуться к своим первым опытам и первичным умениям.
Когда мы собрались в ноябре к началу репетиций, на которые нас благословил в парижском зале Théâtre National de Strasbourg, первые полтора месяца текст инсценировки существовал просто как некая референтная точка, материал для домашнего чтения и обсуждения… Станислас Норде, игравший Неизвестного, все никак не мог сбросить с себя бремя директорских и гастрольных обязанностей (да к тому же в это время тяжело болела и умирала его мать, актриса Вероник Норде). Короче, работала одна пара, один дуэт: Валери Древиль, давняя знакомица Васильева, сыгравшая еще в «Маскараде» и «Амфитрионе» в «Комеди Франсез», и ее партнер Сава Лолов, работавший с Васильевым в многочисленных стажах и мастер-классах начиная со «Школы мастеров» в Вербье. Для обоих такое мощное обращение к этюду было в новинку: Сава, скорее, любопытствовал и пробовал прежде, а Валери занималась, прежде всего, вербальным тренингом, на котором держались и ее Алкмена, и, конечно же, Медея. Но тут мы начинали с «Платонова» — этой странной ранней пьесы Чехова, которую сам он забросил на долгие годы. Многофигурная история, где теряешься среди множества персонажей: словно какая-нибудь из нынешних пьес Мишеля Винавера или Деи Лоэр, где путаешь реплики и отношения, где нет и следа кристальной выверенности и балансировки чеховской классики «больших пьес». Но вот эта рыхлость, мутность, взаимная диффузия персонажей как раз и была интересна Васильеву в его упражнениях с актерами.
 © Jean Louis Fernandez
© Jean Louis FernandezДля меня наблюдать это со стороны, да что там: позволять потоку энергии проходить насквозь, трогать актеров случайными словами, пытаться угадать скрытые пружины отношений, которые Васильев предпочитает держать в сумеречной, полусекретной зоне, — всегда какой-то особый кунштюк, цирковой фокус, нечто сродни истинной магии… Нам приходил помогать Ежи Клесик, польский актер, давно практикующий во Франции: он поддерживал этюды чисто телесными импровизациями, которые позволяли делать еще один заход к освоению человечьих «отношений», когда все связи прорабатываются параллельно также и на уровне чисто телесных взаимодействий, когда говорит и ведет тело — даже не свой импровизационный текст «предлагаемых обстоятельств», но просто тело со всеми его капризами, неожиданными взбрыкиваниями, странными поворотами. Платонов, распавшийся в конечном счете на сластолюбца и гедониста Орлова и уставшего, опустошенного «идейного» убийцу Неизвестного. И Зинаида Федоровна, сплавленная из наивной открытости нежной дурочки Софьи Егоровны и открытой же чувственности «генеральши» — Анны Петровны. И странные, почти психоделические «опыты» этюдов, где связи рождались из реального скрещения жизненных энергий; не из какой-то мифической «психологии русской школы», но из вполне натурального, сфокусированного, насквозь пробивающего луча ενέργεια исихастов, страстного трепета шиваитской шакти — той последней страсти, которую и в жизни-то каждый из нас слышит лишь изредка, отчасти, но — раз услышав — не в силах больше забыть. Когда актера ведет, прежде всего, тело, когда — еще до всех «чувств» и жизнеподобных эмоций, — словно под большой лупой, генерируется энергия черного солнца, прожигающая ткань существования насквозь. Тело как большая собака-поводырь, ведущая за собой все остальное: и будущие слова, и концепты, и ту самую «метафизику», которая, как оказывается, зависит от того же дуновения, от того же сквозняка жестокой и неумолимой страсти. Только здесь выходит наоборот: это слепая собака-ищейка ведет за собой зрячего — того, кто, как считается, умеет так убедительно рассуждать, строить такие хитросплетения идей, подниматься до разреженных высот духа…
В скобочках скажу, что в этих парижских упражнениях, продолжавшихся до самого конца января, Станислас смог принять участие лишь полтора месяца спустя. Потому и Неизвестный, задуманный как странное сочетание, слияние колеблющегося неврастеника Платонова и холодного, легкого убийцы-мистика Осипа, вышел чуть недоделанным. Но об этом позже.
Пока — посмотрим сам этот расклад «Рассказа неизвестного человека», каким он привиделся Васильеву, неустанно твердившему нам о трех ипостасях свободы: свобода как концепция безудержного и внеморального наслаждения (граф Орлов), свобода как энергия самоубийственного протеста (Неизвестный) и, наконец, свобода как любовь, способная к последней степени открытости (Зинаида).
Есть граф Орлов с его теорией наслаждения, со свободой, которая толкуется, прежде всего, как удовольствие от преходящих, текучих жизненных моментов: «так гладят кошек или птиц, так на наездниц смотрят стройных…» — Орлов, этот русский Дон Жуан северного извода, действительно в чем-то очень похожий на Платонова из ранней пьесы Чехова (или даже на более позднего Иванова). Любитель вина и книг, ценитель прекрасных женщин, более всего дорожащий своей независимостью от любых связей и привязанностей. Орлов, казалось бы, надежно прикрытый и защищенный всепобеждающей иронией: к нему не пробраться, его не уколоть, не задеть, не ранить. Но если ты так надежно закрыт — муха не пролетит, женщина не раздрызгает неосторожное сердце, невзначай порвав его на куски, — может, внутри уже и нечего защищать? Может, все давно ссохлось и скукожилось, где была живая материя души — там давно муляж, сдувшийся от недостатка применения?
Есть как бы его оборотная сторона — Неизвестный, вначале предстающий перед нами в образе лакея, в униженной и презренной личине зависимого раба. А на самом деле — черный рыцарь, благородно служащий делу революции. Где ради общего блага (не для себя, о нет — для всех униженных и оскорбленных!) необходимо скрываться, заметать следы — и убивать, убивать, убивать… Где вершина служения — это бескорыстная и опасная работа, которую нужно делать возможно лучше. И опять-таки: в конце нашего рассказа мы видим человека усталого, опустошенного, выжатого досуха, как лимон, — человека, разочаровавшегося и в своих идеях, и в том жизненном пути, который сам он выбрал… Казалось бы, мужчина, превратившийся в разящий меч, — он заведомо бесконечно прекрасен, бесконечно притягателен, как блестящий дамасский клинок. Но что сделать, если и сталь потускнела, и режущее лезвие вконец притупилось…
А между ними — даже не стороной такого треугольника, но, скорее, точкой посередине на этой натянутой струне между двух противоположных полюсов — девчонка, глупая девчонка, несмотря на все ее замашки и привычки избалованной барыни. Зинаида Федоровна, Зинка-корзинка, взбалмошная, наивная, страстная и фантазийная. Уж не особого ума или тонкости, почти без образования (Захер-Мазоха, к примеру, точно не читала!), но имеющая иной дар, более редкий, дар, чаще свойственный женской натуре, чем сумрачному мужскому духу, — имеющая способность самозабвенно отдаваться. Живущая в состоянии какой-то болезненной, глупой открытости… Умеющая воспламеняться от идей, а потом переносящая всю эту дурацкую страсть на человека, на мужчину, от которого зажглась, которым обожглась… Страсть к идеям, влюбленность в них, которая потом невзначай перебрасывается, переползает и на мужчину, рассказавшего ей об этих идеях. И любовь, которая своей мощью могла бы спасти и радикального гедониста, и идейного убийцу… не спасает только человека уставшего, изверившегося… Любовь, которая тоже на свой лад подобна религиозному служению — было бы только кому служить!
Болотистый, промозглый Петербург — и солнечная, беспутная Венеция, тот далекий рай, который не спасает. И как во Франции 68-го года — крепкий коктейль из радикальных, революционных идей и раскрепощенной сексуальности. И так же, как повсюду на свете, — горькое похмелье, утонувшая утопия, рай, из которого уходишь сам — без спутника и даже без змея уже забытых искушений…
Почти неуловимая, бегло отстукиваемая морзянка быта (или бытия).
И тогда же, еще в парижский период репетиций, Васильев придумал свою сценографию спектакля, которая с небольшими вариациями повторялась затем и на основной сцене TNS, и на гастролях в Париже (в Бобиньи у Ортанс Аршамбо) и в Ренне (на Национальной сцене Бретани у Артюра Нозисьеля). Кто видел прекраснейший зал, названный в честь Кольтеса, — основную сцену TNS, которая чудесным образом сыграла в прошлогодней версии «Медеи», тот помнит и прекраснейшую акустику, и самое разумное, гармоничное соотношение сцены и зала. Вот это соотношение, вот этот классический баланс Васильев поломал и дополнил иначе. Сцена спустилась и достроилась в зал, развернулась и разомкнулась навстречу публике. Васильев, по существу, сконструировал давнюю свою мечту — своего рода синтез «итальянской» сцены и греческого амфитеатра. В зал был вынесен белый полукруг орхестры (арены), так что зрители, окружавшие полукольцом вынесенное к ним зрелище, оказывались в опасной и действенной близости от актеров, игравших буквально в одном-двух метрах от перепуганной французской публики. Часть действия проходила на просцениуме — то есть прямо перед тремя дверями в невысокой белой стене-перегородке; двери эти открывались вглубь скены (там начинались или продолжались некоторые эпизоды, лишь частично открытые взгляду). Наконец, задник составляли два огромных монохромных панно, представлявших почтовые карточки оранжево-кирпичного Петербурга, а потом и солнечной, желтой Венеции. Полотна соединялись из широких полос шелка, свободно скрепленных шнурами, но способных тихо колыхаться от ветра мощного вентилятора — и внезапно падать, обрушиваясь вниз с шелковым шорохом парусов или тяжелых занавесок. За двумя этими занавесами были собраны строительные леса из бамбука: довольно разлапистая, свободная конструкция, еще недостроенная, как бы уходящая вверх. Ярусы здесь соединялись легкими приставными лестницами (прямо-таки с картин Эшера), а поверх всей конструкции угадывались очертания то ли масонского, то ли греческого треугольника, скреплявшего весь каркас…
На арене же прямо перед зрителями уходил вверх девятиметровый сложенный синий зонтик — вроде тех летних конструкций, что сдаются отдыхающим за сколько-то лир на итальянских пляжах… Никаких салонных диванов или буфетов. Вся мебель, которая по ходу дела выносится на просцениум (и остается там стоять до самого конца спектакля), — это легкие столики да плетеные или перепончатые стулья… Легкие знаки препинания: почти неуловимая, бегло отстукиваемая морзянка быта (или бытия), производившая такое ошеломляющее впечатление в васильевских постановках пьес Дюрас — и вновь понадобившаяся в, казалось бы, куда более плотной житейской вязи Чехова… И вновь — теперь уже вместе с многочисленными кофейниками и крошечными чашечками — выполняющая особую роль. Не реквизита, но значков нотной партитуры, отбивающих ритм и ведущих свою мелодию…
В разработке сценического декора Васильеву помогал Филипп Лягрю, нынешний технический директор «Старой голубятни» (Vieux Colombier), уже участвовавший в сценографических решениях «Амфитриона» и «Второй музыки». На свете в TNS с Васильевым работал молодой художник Филипп Бертоме, который довольно быстро понял, что на сцену обрушатся световые потоки целых групп прожекторов холодного или теплого спектра — прожекторов, которые едва ли оставят место тонкой нюансировке чеховских «психологических» образов. А костюмы разрабатывали два уже привыкших к васильевским причудам костюмера: для Петербурга — Вадим Андреев (прежде работавший в «Школе драматического искусства», а совсем недавно строивший костюмы и модель китайского львенка для васильевского же Хемингуэя), а для Венеции — Ренато Бьянки, обычно обшивающий все парижские премьеры Васильева. Условный эскиз жизни уже проступал наброском в этой странной монохромной одежде — отчасти следовавшей в силуэтах историческим образцам, но сохранявшей единый колорит для всех персонажей: бледно-болотистый, зеленоватый для петербуржских интерьеров — и светло-бежевый, песочный для морского берега Венеции.
Вот так и начиналась вся сценическая игра. Два стула на пустом просцениуме (прочие мелочи нарастали позже, постепенно, по мере развертывания действия). Распахивалась боковая дверь слева — и перед нами, совсем рядом, сбежав по лесенке на арену, уже начинала свой нервный и сбивчивый рассказ Зинаида Федоровна. В первый раз в своей сценической практике Васильев решил ввести физическое действие актеров в сам драматический рисунок спектакля. Зинаида пару раз обходит арену по периметру, почти задевая зеленоватыми юбками колени сидящих зрителей; вот она резко останавливается — взмахивают, взлетают вверх руки, переламывается тело, есть прежняя память, есть бьющаяся жилкой энергия страсти и простодушия — и вот уже начинается одинокий танец? да нет, не танец, но та стенографическая запись прежней истории — романа ли? любовного соблазна и смешной светской сплетни? скандала? чисто женской истории полудевочки — наивной «новой женщины» восьмидесятых, увлеченной то ли мужчиной, то ли «прогрессивными» идеалами… А чуть сверху на нее — с восхищением и легким раздражением — уже смотрит Орлов, сам не ожидавший, что она бросит мужа, привычную жизнь, положение в свете ради призрачной и преходящей страсти, с которой сам он так легко умеет управляться.
В этот петербуржский период попадают первые четыре сцены спектакля, когда в течение полутора часов нам рассказана смешная и банальная история вспыхнувшей страсти и ее угасания в череде мелких стычек и житейских пустяков. В дыме русских папирос и запахе крепкого кофе посреди ночи, на фоне длинного ряда пустых бутылок у белой стены… Скучная, чисто чеховская история? Ну не совсем… Не забывайте: она расписана иначе в этой партитуре, слова и для самого Чехова мало что значат, но здесь — вся подкладка вывернута наружу, мы видим, как сшиты эти грубые швы страсти, как разрядами пульсирует животная энергия — и впрямь энергия живота, висцеральная энергия, лежащая в подложке всяких человеческих связей. Пока те не станут рваться, а в расползшиеся швы не станет пробиваться энергия иного мира, иного сна, иного звучания голоса. На сцене среди прочего реквизита, совсем как в «Караваджо» Дерека Джармена, сам собою вдруг появляется неловкий, слишком громоздкий нож. Меняется Зинаида — она как-то стремительно взрослеет и осознает себя.
Надо сказать, что французским зрителям страшно нравился такой феминистский поворот, неожиданный для Чехова, относившегося к женщинам, скорее, с легким пренебрежением, со снисходительной симпатией. Но тут, в спектакле, мы видим иное: ту оборотную сторону гобелена, про которую говорил Торнтон Уайлдер, — как если бы нам случилось подсмотреть то, что обыкновенно остается скрытым по эту сторону земного существования. Герои снова и снова проговариваются, спускаясь на арену и позволяя реально зажечься этому язычку пламени, позволяя услышать, ощутить этот сквозняк (как говорит Орлову Зинаида: «Да, я молода, Жорж, ужас как молода!.. Так ветром во мне и ходит эта молодость, так и свищет!..»). И тут же: «Холодно! Холодно!» Потому что живому человеку страшно бывает ощутить внутри себя напор той жизни, которая на самом деле есть не просто симпатичное и трогательное влечение к телесным пустякам, но тот последний порыв, что послужит то ли трамплином, то ли волной, выносящей живое существо на иной берег. А чувственным сопровождением к этой нехитрой истории, к тянущейся канве отношений служит навязчивая до обсессии мелодия Adagietto Густава Малера — тот цепляющий за сердце мотив, что Висконти уже подарил нам всем как мечту о Венеции, ту последнюю мечту, с которой как-то легче и утешительнее гибнуть.
Для Васильева здесь (как и в спектаклях по пьесам Дюрас) важно было соединить два типа структур, прежде не существовавших для него вместе так естественно. Показать ту лестницу Иакова, по которой бродят и толкаются вовсе не ангелы, но все мы, грешные, — независимо от своих намерений или желаний. Если энергия страсти нарастает — не важно, с каким знаком, — значит, цепляясь за перекладины, волей-неволей карабкаешься вверх. Меняется тембр голоса, меняется телесный рисунок, обрывистыми, обугленными по краям делаются очертания самого мира, который теряет плотность и мясистость. Теряет вязкую тяжесть и прелесть деталей, расползается по швам… Боюсь, что, когда говорят о мотиве «живой жизни» в поэтике обыденности у Чехова, обычно не видят этой страшной оборотки (скажем, в небольшом рассказе «В ссылке» приблизительно того же времени, что и «Неизвестный» (1892), где татарин говорит скептику и цинику Толковому: «Бог создал человека, чтоб живой был, чтоб и радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значит, ты не живой, а камень, глина! Камню надо ничего и тебе ничего… Ты камень — и Бог тебя не любит»).
 © Jean Louis Fernandez
© Jean Louis FernandezВот тут — в обычной одежде, в потертых джинсах и при полностью зажженном в зале свете — на арену выходит со своим монологом Неизвестный, который до сих пор только безмолвно выкатывал столики с кофейными приборами, присматриваясь к своим господам… Этот длинный монолог, лишь проясняющий задним числом то, что мы и так уже увидели и ощутили, соединяет первое и второе действия. С арены Неизвестный поднимается на просцениум и по ходу дела на удивление споро и ловко собирает стоящие у стены бутылки в белую сетку. Та бесконечно растягивается, у нее отрастают руки и ноги — и вот уже бывший лакей волочит за собой огромную фигуру человека, выросшего внутри сетки из горы собранных бутылок. Неизвестный усаживает страшную куклу на высокий стул, привязывает ее к спинке, и вдруг — мгновенно преображаясь в темного убийцу с его отработанной кошачьей пластикой — быстро прицеливается и стреляет… С этого момента меняется ритм, меняется свет, на заднем плане обрушивается вниз гравюрка с почтовой карточкой Петербурга — и мы попадаем в иную историю, над которой более не властны «психологические» механизмы нормальных причинно-следственных отношений.
Пока мы тренировались в TNS вместе со всей командой (и, прежде всего, с нашим реквизитором Максом и с Вадимом Андреевым, который так или иначе выправлял все элементы перформанса, задействованные в спектакле), мы, по правде говоря, чуть не разнесли весь театр. Взрыв (вместе с китайскими петардами, поддержанными басовыми колонками внизу, под настилом сцены, и мощной вспышкой света) разносит на части не просто почтенного сановника — он разрушает окончательно целостность нормального, по-своему уютного буржуазно-аристократического мирка… а дальше все неудержимо сползает в пропасть. В изменившемся свете белая стена с ее прямоугольниками дверей почти растворяется в смешении и переплетении теней, корабельные канаты, свисавшие где-то сбоку, вдруг находят себе применение: на них повисает огромная гостиничная простыня как самодельный экран для любительского фильма. И вот уже Неизвестный, поджидающий загулявшую Зинаиду, смотрит вместе с нами черно-белый немой фильм об их первых счастливых днях в Венеции, о прогулках в гондоле, когда они лежат в белых нижних рубашках у ног гондольера, и читают друг другу вслух, и смеются, и там, на этом зыбком экране-парусе, все еще возможно, все только начинается заново…
Ускоряется, обрывается и перескакивает ритм действия. Почти полностью уходит «человеческая», чувственная интонация первой части (она — беззвучно — длится лишь на экране, в параллель, в перпендикуляр нынешнему рваному действию, нынешним прыгающим перепадам настроения). Сухой, выжатый, не просто бесслезный, но — как кажется — лишенный всякой чувственной влажности голос Зинаиды. Бесстрастный, усталый от прежних преступлений и когда-то заводивших его идей голос Неизвестного. Трудно даже решить, о чем они продолжают спорить: есть просто несколько чеховских картинок, переведенных в цепляющий колючками сухой диалог. Есть только последнее отчаяние, которому некуда выплеснуться дальше этой отмели. И контрапунктом — этот минималистический фильм (чем-то стилистически похожий на васильевского «Осла», тоже снятого в Италии), где из тех же кубиков и элементов в разных ракурсах предстает жизнь — какой она могла бы случиться…
Зинаида с огромным животом, одетая как богемная актриска или дорогая, стильная шлюха, снова и снова швыряет золотые монетки все за тот же остывший кофе, который так и глох без толку в прежних чашках на многочисленных мелких полупрозрачных столиках. Эти деревянные конструкции, столики-этажерки на тонких паучьих ножках, все так же выползают из-за невысокой стенки на авансцену, на этот просцениум. Действие теснится среди раскатившихся бутылок, жмется по углам среди множества стульев, накатывает волной на шезлонги, вдруг вытащенные из темных углов возле самой арены, почти из-за спины зрителей. Но над всей буйной и хаотичной венецианской сценой парит сверху раскрывшийся купол — пляжный зонтик невозможного синего цвета. Тот, что заменяет собою и небесный свод, и мечту о рае, и шелест тех увлекательных слов, что еще так недавно умели теребить душу.
Последнее, смешное, воспоминание. История Кропоткина, который передает в своих мемуарах анекдот о Гийоме, товарище по подпольной типографии, равно приверженном зажигательным брошюркам анархистов и «розовым» любовным романам с эротическими обертонами. На берегу моря все под тем же зонтиком, прикрывшим их в последний раз, Зинаида и Неизвестный двигаются вместе — вначале под «Колыбельную» Мусоргского (все из того же саундтрека Висконти), а потом под перебивающее все Adagietto. Музыка разрастается, резонируя в дальних углах зала, свет все прибывает, на поблекшем экране впервые вместо лиц, улыбок, книжек мы различаем руки, которые настойчиво и бесстыдно гладят вздувшийся живот. А Зинаида возвращается в прежней белой сорочке из той экранной истории с гондолой, но в руках у нее — эмалированный таз и хирургические инструменты. Она какое-то время сидит, глядя прямо перед собой. Потом медленно поднимается и в беспощадном свете прожекторов начинает страшный танец, высоко вскидывая расставленные ноги, покачиваясь и приседая над тазом. Задирает рубашку — и тут в прозрачном животе, заполненном жидкостью, мы видим скрюченного ребенка, который мог бы родиться. Все так же продолжая танцевать, внутри настойчивого кружения этого странного архаичного ритуала, она медленно берет со стола нож (тот уже появлялся на сцене в одной из историй Зинаиды о ненавистной служанке) и распарывает себе живот. Бледная вода тут же окрашивается кровью, ребенок вываливается и плюхается в таз, а мертвая Зинаида не спеша споласкивает свои ноги и живот из стеклянного кувшина, вытирается полотенцем и поправляет рубашку, снова садясь на стул.
С глухим шелестом падает второе полотно, за ним в прозрачном и призрачном свете обнажаются строительные леса — а там в свисте и гуле ветра, который гуляет себе вдоль задника, вскидывая вверх ленточки и тряпки, привязанные к стволам бамбука, мы различаем у самой стены Орлова в черном фраке с белой манишкой — Орлова, который терпеливо поджидает, пока Неизвестный уйдет к нему, вглубь, к самой дальней стене и ее последнему строительному каркасу. Теперь уже сам Орлов примеряет на себя роль слуги, помогая невольному приятелю и камраду одеться в долгополую черную сюртучную пару. С грохотом опускаются мостки, они вдвоем переходят ближе к нам, на эту сторону, — для последнего диалога. Вот уже свернут и сброшен на пол экран — тот парус, который пока еще вел наш корабль, — и в этом странном междумирье, в косом, скользящем свете чистилища, мы видим раскиданные монетки и грязные чашки, расставленные в беспорядке стулья, столики на тонких ножках, брошенное белье, оставленные без хозяина книги… Тут же, среди всех фантомов и воспоминаний прежней жизни, — на просцениуме — сидит, чуть отвернувшись от нас всех, Зинаида Федоровна, которая тихо выслушает этот последний разговор…
Да нет, никаких особых откровений. Разве, перелистнув страницу, мы становимся иными? Умнее, тоньше, глубже, чем в той, предыдущей, жизни? Эти двое говорят как прежде. Пожалуй, это мы, оставаясь за краем этой истории, но пережив нечто в опыте вместе с ее героями, видим теперь многое под иным углом. Орлов все так же доволен своей философией, которая служит прекрасной защитой, той надежной кирасой, о которую тупятся и искреннее чувство, и случайный простодушный порыв. Неизвестный все так же сетует на раннее иссушение живых движений души, на разочарование в идеях, на неверие и пустоту. Для Орлова нечто новое — это искренняя горечь, искренняя обида на Зинаиду, так встряхнувшую прочные устои его размеренной жизни (отсюда и цитата, посвященная смерти Жюстины из «Жюльетты» де Сада); похоже, даже самый искушенный игрок, самый защищенный Дон Жуан неминуемо приходит к трагическому кризису, который просматривается в жесткой, надломленной пластике его последнего «танца» на краю арены. А вот монолог Неизвестного во многом переворачивает картинку для них обоих. Еще в том Прологе, который Васильев перенес в середину спектакля, Неизвестный в своем письме укоряет хозяина за его «азиатчину», за восточную лень и любовь к роскоши. И только сейчас, когда он впервые отвечает Орлову напрямую, живьем, мы видим, что на деле все обстоит ровно наоборот. Это позитивист и детерминист Орлов, отрицающий свободу воли, в глазах Васильева выступает истинным сыном западной культуры. Только здесь, когда почти все слова сказаны, а чеховские диалоги размотаны по ниточке, разобраны по перышку, мы слышим истинный голос автора спектакля. Для него черная стихия страсти, выжегшая дотла нашего неудачливого террориста, — это и есть истинное выражение восточного брожения, того восточного анархизма, который весь замешан на энергии и никогда — на разуме, на упорядоченной цепочке причин и следствий. Лучше сгореть до последних угольков, но не высчитывать встроенные способы защиты… Лучше отравиться и сдохнуть от тошноты, перепив крови, как черного вина, чем полностью обезопасить себя от преступлений и капризов, от любви и смертного страха… Это впервые выговаривается вслух умирающим преступником, когда он восклицает: «Я верю и в целесообразность, и в необходимость того, что происходит вокруг, но какое мне дело до этой необходимости! Зачем пропадать моему “я”?» Но это же наглядно выражено в последнем диалоге между соперниками, почти буквально перенесенном в театральный текст из той памятной сцены, когда Осип приходит убивать Платонова. Надо сказать, что французы этого попросту не увидели — как не увидели они памфлета, обращенного против века Просвещения, в «Терезе-философе» или же противостояния Запада и Востока во «Второй музыке». Отчасти потому, что Станислас играл скорее растерявшегося и запутавшегося мальчика-подростка, чем хладнокровного убийцу «на вакациях», которого хотел вылепить Васильев. Эта история со Станисласом — отдельный рассказ и отдельная история…
А вот наш спектакль закончился в точности так, как и было задумано. После всех чудовищных и путаных историй: и сановник то ли убит, то ли нет в террористическом нападении, и тот страшный перформанс Валери с ее трайбалистскими танцами — то ли кровавый аборт, то ли роды — да и кто нам может сейчас сказать с уверенностью, произвела ли Россия на свет свое дитя или это был чудовищный монстр, выкидыш, доживающий сейчас свои последние годы без надежды на спасение… Так или иначе, когда герои — один за другим — постепенно выводятся за скобки, скидываются поочередно с этой шахматной доски, пока еще звучат последние слова о дочке Зинаиды, на сцене появляется девочка в цирковом платьице. Не обращая внимания на прочих персонажей, она самозабвенно танцует с тряпичной куклой, одетой в тот же костюмчик. И после, когда все слова уже сказаны, та же малышка несколько раз с силой бросает обмякшее тельце, снова и снова разбивая его о шест зонтика. Когда становится ясно, что от куклы, пожалуй, большего не добьешься, девочка вздыхает, задирает голову и, медленно переступая ногами, самыми кончиками пальцев, по шесту, едва касаясь его ладонями, начинает подниматься вверх. Туда, где по всему краю неровного, асимметричного купола красной краской выведено с отступом, по одной букве, название той венецианской гостиницы, где наши герои останавливались на сколько-то недель кряду: Il Paradiso. На самом верху девочка замирает, вытянувшись и прижавшись к стволу этой мачты, она смотрит на нас и тихо смеется, а зонтик над ее головой медленно закрывается — может, прячет от неурядиц судьбы, может, просто милосердно дает исчезнуть…
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Искусство
ИскусствоБеседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science
2 февраля 20229239 Общество
ОбществоТекст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги
1 февраля 202226161 Академическая музыка
Академическая музыка Литература
Литература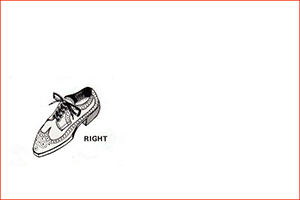 Молодая Россия
Молодая Россия«Говорят, что трех девушек из бара, забравшихся по старой памяти на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства». Рассказ Артема Сошникова
31 января 20222484 Искусство
Искусство Современная музыка
Современная музыка Кино
КиноДенис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат
27 января 20229429 Современная музыка
Современная музыкаТурист, модник, художник и другие малоизвестные ипостаси лидера «Кино» на выставке «Виктор Цой. Путь героя»
27 января 20228988 Молодая Россия
Молодая Россия«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой
27 января 20222705 Литература
Литература Общество
Общество