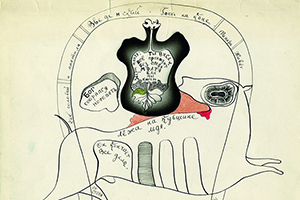 Литература
ЛитератураФилософ и художник: Яков Друскин и Михаил Шемякин
 © Музей истории ГУЛАГа
© Музей истории ГУЛАГаЧитая запись беседы уважаемых интеллектуалов, трудно не согласиться с большинством замечаний, высказанных в адрес нового Музея истории ГУЛАГа. Почти все наблюдения очень точные. Вместе с тем, возможно, имеет смысл хотя бы тезисно проговорить общие места, чтобы вывести критику отдельной институции в более широкий и более сложный контекст, а также для того, чтобы перевести разговор «для своих» в более открытую платформу для обсуждения.
СУЩЕСТВУЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА МУЗЕЕФИКАЦИИ ПРОШЛОГО. Любая попытка визуально воссоздать, передать и/или зафиксировать исторический опыт неизбежно заканчивается либо пропагандой, либо китчем или уходит в возвышенное, а как правило — заканчивается удобным коктейлем из этих трех ингредиентов. В этом смысле Музей истории ГУЛАГа ничем не хуже, но и не лучше всех остальных подобных музеев. Можно с большой степенью уверенности утверждать, что на сегодняшний день нигде в мире нет ни одного музея истории геноцида или массового террора, постсоветского или «западного», который справился бы с этой задачей. Они все одинаково неудовлетворительны. На то есть разные причины. Но все их можно условно поделить на три вида: философские, политические и причины, которые мы обозначим как проблему «медиума», то есть самой формы музейной репрезентации.
Описание этих причин, возможно, позволит понять, есть ли решение у означенной проблемы и если да, то какое.
В основе деятельности любой институции всегда лежит определенная философия, то есть представление о добре и зле. Несколько упрощенно философию музеев геноцида и массового террора можно сформулировать следующим образом. Зло — это мир палачей, насилия и террора. Соответственно мир жертв есть добро. Ален Бадью в своей «Этике» убедительно показывает, к чему приводит такое понимание добра и зла. Во-первых, получается, что зло всегда первично, а добро — производное от зла, поскольку палач всегда производит жертву, а не наоборот. Во-вторых, добро понимается исключительно в терминах сопротивления, как «право на не-насилие», по выражению Бадью, а не как борьба за альтернативные идеалы и ценности. И наконец, в-третьих, зло (впрочем, как и добро) иррационализируется, то есть воспринимается как непонятный и необъяснимый эксцесс в истории прогресса, а не как конкретная политика, то есть ряд конкретных политических решений и мер по их реализации, принимавшихся и осуществлявшихся конкретными людьми в конкретном месте в конкретное время. Это, в свою очередь, делает зло тотальным, общим, без нюансов, в нем коммунизм смешивается с нацизмом, террор с холокостом, а Саддам Хусейн с Гитлером. Как следствие, в деятельности подобных музеев возникает странная, тревожная амбивалентность. Что они предъявляют — историю жертв или историю преступлений? И не является ли сакрализация жертв одновременно и увековечиванием дела палачей? Эта амбивалентность просвечивает, в частности, уже и в самом названии «Музей истории ГУЛАГа». Не зная контекста, можно подумать, что это музей достижений работников НКВД. Впрочем, название «музей холокоста» не лучше.
Другая проблема заключается в принципиальной невозможности изолировать и передать чужой опыт. Очень условно исторический опыт можно поделить на две категории — опыт травмы и опыт триумфа. Опыт травмы, в свою очередь (и тоже очень условно), делится на опыт жертвы и опыт поражения. Опыт жертвы чрезвычайно разнообразен. Это отдельный и очень важный вопрос: можно ли найти нечто общее в опыте, скажем, рабства, колонизации, репрессий, геноцида, массовых изнасилований и т.д.? Либо стоит продолжать принципиально настаивать на их различиях, тем самым эти различия закрепляя и лишая себя возможности солидаризироваться? Тем не менее задачу репрезентации опыта жертвы при всем его многообразии и непохожести можно свести (опять же очень условно) к проблеме морально-этического свойства, которую можно обозначить как «феномен музлмана». Об этом размышляют Примо Леви и Джорджо Агамбен. Музлман («доходяга» на жаргоне Освенцима) — жертва par excellence. Это человек, не просто истощенный до предела, но лишившийся всякой воли к жизни и, таким образом, представляющий предельный пример «голой», то есть дегуманизированной, чисто биологической жизни. Поскольку все музлманы мертвы, они не могут свидетельствовать о своем опыте. Но в тот момент, когда кто-то пытается свидетельствовать за них, вместо них или от их имени, они тоже лишены голоса, так как говорит все равно кто-то другой. И даже свидетельство человека, пережившего сходный опыт, но выжившего, все равно будет неполным и не вполне легитимным.
Не является ли сакрализация жертв одновременно и увековечиванием дела палачей?
Репрезентировать, передать, даже просто осознать опыт поражения тоже очень сложно. Алейда Ассман в своей книге «Новое недовольство мемориальной культурой» описывает десятилетие консенсуального молчания в послевоенной Германии, когда «первое» поколение, то есть те, кто непосредственно пережил 12 лет нацизма, отказывалось рефлексировать свой опыт.
Впрочем, репрезентация триумфа — задача не менее, а возможно, более сложная, что еще больше усугубляет означенную проблему. Так, например, всего через десятилетие после Октябрьской революции Вальтер Беньямин пишет в своем «Московском дневнике» о постреволюционной молодежи: «революционность приходит к ним не как непосредственная реальность, а как лозунг» — и далее: «революционную энергию стараются сохранить в молодежи, словно электроэнергию в батарее. Это невозможно». Революционное событие всегда разворачивается во времени и не ограничивается одной эпохой или поколением. Поэтому оно не поддается репрезентации. Точнее, так — Событие в репрезентации становится событием, останавливается и консервируется.
В историческом опыте России ХХ века и, шире, СССР триумф тесно переплетается с травмой. Так, например, Октябрьская революция — как поворотный момент в истории человечества — всегда будет находиться в тени последовавшего за ней террора, а в истории Великой Отечественной войны победа навсегда омрачена невероятной тяжестью ее цены (включая депортацию чеченцев и ингушей, татар и немцев, новую, послевоенную, волну репрессий, позорную антисемитскую кампанию и оккупацию части Европы). И это делает еще более сложной задачу репрезентации истории в современной России.
Исторический музей — всегда инструмент идеологии, и он всегда будет зависим от политической конъюнктуры. Любой исторический музей занимается тем, что принято называть «коллективной памятью».
Под «коллективной памятью» подразумевается определенный исторический нарратив, относительно которого в обществе (или в других социальных группах — этнических, гендерных, профессиональных и т.д.) установился консенсус. Иными словами, прошлое — это не то, что мы помним, а то, что мы знаем. Потому что прошлое, даже наше собственное, всегда дано нам в репрезентации, то есть в целой системе практик, ценностей, символов, верований, визуальных образов и т.д. Факты в этой системе играют важную, но далеко не определяющую роль, так как труднее всего признать некую информацию фактом, а уж тем более договориться относительно ее интерпретации. Парадоксальным образом понятие «коллективная память» имеет больше отношения к современности и к будущему, нежели к прошлому.
По сути в основе всех войн и конфликтов нового и новейшего времени лежит спор об истории.
Итак, «коллективная память» — это сложный идеологический продукт. Он формируется так называемой политикой памяти, которую можно определить как совокупность мер, принимаемых тем или иным (со)обществом для создания, поддержания и передачи консенсуального знания о прошлом — или, точнее, представления о нем. Поскольку это представление — важная часть формирования идентичности (прежде всего национальной), главным агентом политики памяти выступает государство. В некоторых, более либеральных, обществах наряду с государством другие группы формируют альтернативные версии прошлого. Но легитимация этих версий — всегда плод тяжелой и длительной борьбы. И эта борьба далеко не всегда носит мирный, демократический характер. По сути в основе всех войн и конфликтов нового и новейшего времени лежит спор об истории. Сегодня, в эпоху массовой миграции, усиления разных форм национализма и фундаментализма и захвата транснациональными корпорациями национальных экономик, эта борьба только усиливается.
Начиная разговор о коллективной памяти и, шире, о прошлом, всегда нужно иметь в виду четыре вопроса: кто помнит, что, как и зачем. Ответ на первый вопрос помогает выявить ту самую заинтересованную группу, которая ставит своей целью «сохранить» историческую память, а на самом деле сформировать ее. В этом смысле государство стоит рассматривать как инструмент политики правящего класса, обладающего достаточными ресурсами (в том числе и госаппаратом) для создания образа прошлого. Этот образ формирует систему ценностей, которая, в свою очередь, поддерживает существующую систему господства/подчинения, установившуюся в данном обществе.
Поскольку, как было уже сказано выше, это вопрос формирования консенсуса, то есть принятия данного исторического нарратива условным большинством, то будет всегда условное меньшинство, исключенное и из процесса формирования этого нарратива, и из самого нарратива. И это подводит нас ко второму вопросу. Те, кто «помнит», — это и те, о ком впоследствии помнят. Поэтому за образ прошлого ведется такая ожесточенная борьба. Это борьба за историческое выживание.
Повторим. Исторический музей — инструмент идеологии, посредством которого производится, фиксируется и передается коллективная память. Но музей — далеко не самый главный инструмент в арсенале средств, используемых в этих целях. Перед ним в списке значатся образование, пропаганда, культура, городская политика. Однако специфика музея заключается в том, что в нем объединяются все эти функции. Это одновременно и образовательная институция, и культурное учреждение, и точка на туристической карте города. Такая синтетичность (гетеротопия в терминах Мишеля Фуко) потенциально создает пространство для политического маневра, когда институция может хотя бы частично выскользнуть из-под идеологического контроля.
На практике неолиберальная политика эффективного менеджмента, распространившаяся и на сферу культуры, заставляет музеи встраиваться в формат так называемого edutainment. Edutainment — это сплав образования (education) с развлечением (entertainment), иными словами, совмещение приятного с полезным. Но в реальности это понятие означает «образование как развлечение (как форма развлечения)», то есть замещение первого вторым. Можно, например, сходить в кино на историческую драму, а можно — в исторический музей или на лекцию. Edutainment зиждется на трех китах: потребление культуры, индустрия развлечений и технические инновации.
В фильме Вуди Аллена «Будь что будет» провинциальные гости, приехавшие в Нью-Йорк, спрашивают, куда можно пойти развлечься. На что главный герой отвечает: «Сходите в Музей холокоста».
В контексте музея это означает, прежде всего, создание оригинальной, привлекательной экспозиции. Проще говоря, архитектуре, дизайну и техническому оснащению придается важное, если не основное, значение. Это действительно роднит Музей истории ГУЛАГа с Еврейским музеем в Москве или Берлине, с музеем Яд ва-Шем в Иерусалиме и всеми другими подобными музеями. В фильме Вуди Аллена «Будь что будет» провинциальные гости, приехавшие в Нью-Йорк, спрашивают, куда можно пойти развлечься. На что главный герой отвечает: «Сходите в Музей холокоста». В этой шутке нет ни капли шутки. В Музее холокоста, как и в Музее истории ГУЛАГа, созданы все условия, чтобы если не развлечься, то как минимум приятно провести время. Этим достигаются три цели. Первая — увеличение потока посетителей и расширение возрастной аудитории, то есть пресловутое повышение эффективности (обычный входной билет в музей стоит 300 рублей). Вторая — еще большее отчуждение истории от нашего непосредственного опыта. Перефразируя Беньямина, можно сказать, что история сегодня воспринимается не как непосредственная реальность, а как слоган. Историческая травма, превращенная в зрелище, как бы вытесняется, а знание заменяется удовольствием или аффектом. Третья — дальнейшее превращение культуры и образования в формы услуг с соответствующей иерархией их распределения.
И все же эффективный менеджмент не объясняет в полной мере стремление этих музеев создать «современную», «аттрактивную» и по возможности интерактивную экспозицию. В таком повышенном интересе к дизайну наглядно проявляется идеологическая природа исторического музея, его претензия на сакральность и монументальность. По сути что мы имеем в данном случае? Набор документальных реди-мейдов, которые благодаря своей «документальности» и «аутентичности» призваны поведать нам нечто очень важное, а главное, достоверное. Организация этих реликтов в определенном порядке, максимально эффектная подача (свет, дизайн витрин, звук), а также сама архитектура музея призваны усиливать драматический эффект от соприкосновения с прошлым и вызывать в зрителе чувство священного трепета. Создается храмовое монументальное пространство. Анри Лефевр в своем классическом труде «Производство пространства», указывая на консенсуальный характер монументального пространства, «в котором каждый имел свою часть... и все имели его целиком — естественно, в рамках принятия единой Власти и единой Мудрости», замечает: «Монументальное пространство имеет не только пластические, доступные взгляду свойства. Оно обладает и свойствами акустическими, и если их нет, монументальности чего-то недостает» — и далее: «Любой предмет повседневной практики — ваза, сиденье, одежда, — будучи перемещен в монументальное пространство, преображается: ваза становится священным сосудом, одежда — торжественным одеянием, сиденье — престолом». В данном случае монументальное пространство служит примером того, как идеи о добре и зле, о которых мы говорили вначале, могут быть выражены в кирпиче, бетоне, стекле и светодиодах. Происходит наглядная сакрализация исторического дискурса, то есть выход за рамки рационального. И в этой зоне иррационального зло остается неприкосновенным.
Подытоживая, можно наметить предварительный, пока еще очень грубый, экстренный план действий по эмансипации музея. И этот план относится не только к Музею истории ГУЛАГа. Прежде всего, необходимо изменить основополагающую философию и сформулировать ее в категориях добра, а не категориях зла. Это не отменит политической ангажированности музея, но поможет сформулировать собственную повестку дня, что, в свою очередь, позволит хотя бы концептуально освободиться из-под существующего идеологического гнета. Необходимо также отказаться от ставки на развлечение. И наконец, исторический музей должен отказаться от всяких претензий на монументальность. Возможно, это приведет к самоликвидации такого рода музеев. Однако самоликвидация не означает исчезновения. Это означает появление новой формы. Возможно, это будет гибрид исторического музея и современного искусства, но на уровне не интервенции, а именно полного растворения одного в другом. Это, безусловно, потребует взаимных уступок. Но об этом и об отношении современного искусства к истории стоит написать отдельный текст.
Понравился материал? Помоги сайту!
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости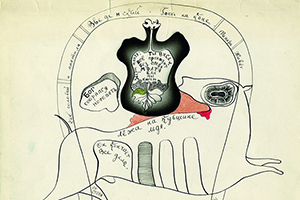 Литература
Литература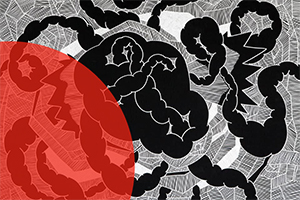 Colta Specials
Colta SpecialsПоэтесса Наста Манцевич восстанавливает следы семейного и государственного насилия, пытаясь понять, как преодолеть общую немоту
20 января 20226150 Искусство
Искусство Искусство
Искусство Молодая Россия
Молодая РоссияРассказ Алексея Николаева о радикальном дополнении для обработки фотографий будущего
18 января 20222295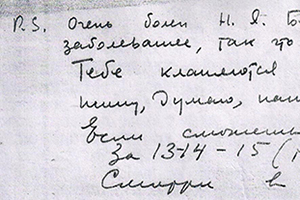 Литература
Литература Общество
Общество Искусство
ИскусствоКуратор Алиса Багдонайте об итогах международной конференции в Выксе, местном контексте и новой арт-резиденции
17 января 20225807 Академическая музыка
Академическая музыка Искусство
Искусство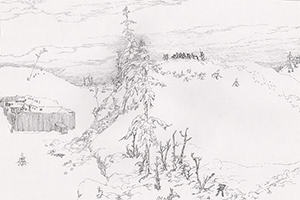 Литература
Литература Общество
Общество
Андрей Мирошниченко о недавнем медиаскандале, который иллюстрирует борьбу старых и новых медиа
13 января 20229189