 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто мешает антивоенному движению объединиться?
Руководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением
24 января 202330777 Начало сноса Зарядья, начало 30-ых гг.
Начало сноса Зарядья, начало 30-ых гг.«Помню одну такую старушку: когда на объекте пошли работать трактора, бульдозеры, она вышла и начала кричать: “Сейчас лягу грудью под бульдозер!” В таких ситуациях смотришь на все это, слушаешь и понимаешь, что самое главное — сдержаться и не рассмеяться».
Из интервью главного архитектора и научного руководителя проекта реконструкции озеленения территории ВДНХ Андрея Коровянского.
«Строения по адресу Москва, ул. Погодинская, д. 2/3, стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 4 — пример рядовой (типовой) квартальной застройки, предназначавшейся для временного использования и проживания рабочих. Данные здания не обладают какими-либо уникальными или индивидуальными архитектурными особенностями, заслуживающими сохранения или реставрации».
Из заключения экспертов (предоставлено группой им. Мартыновича).
«Достижения Москвы в сфере охраны памятников получили международное признание: на Международной выставке по охране, реставрации и приспособлению памятников под современное использование denkmal <…> в Лейпциге <…> правительство Москвы получило специальную награду Европейской выставки за выдающиеся достижения в области охраны памятников».
Из доклада о работе Департамента культурного наследия города Москвы 7 декабря 2016 года.
В этой статье я рассмотрю три наиболее проблемных аспекта современного использования и понимания культурного наследия в России, сконцентрировавшись на наследии XX века. Во-первых, это отсутствие консенсуса о понятии «общественного достояния». Во-вторых, это игнорирование важнейшей функции культурного наследия как инструмента социальной работы. В-третьих, это двойственное отношение к коммеморативной культуре СССР.
Как показала в своей книге Екатерина Правилова, в Российской империи частные интересы были выше государственных, что привело к фрагментарности понимания идеи общественного достояния [1]. Проще говоря, за владельцем признавалось право на полное самоуправство вопреки любым соображениям общественной пользы. В СССР неоспоримость частного права стала свойством государственного права. За сто с лишним лет не удалось создать буферной зоны «общественного достояния», охрана природы, памятников и интеллектуальных прав хронически противопоставляется извлечению прибыли, причем не важно, кто ее получает — государство или бизнесмены. Cимптоматично, что федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия», который был принят лишь в 2002 году, сменив закон 1976 года, уже в 2009 году включил в себя поправки, которые облегчили выведение памятников из-под охраны. Определяющим мотивом снятия с охраны стала коммерческая выгода от освобожденного участка [2]. Типичный случай произошел и с так называемой Сносной комиссией при правительстве Москвы [3], которая была ликвидирована как нарушающая права собственников перестраивать исторические дома на свое усмотрение [4]. Недавно был организован и круглый стол по государственно-частному сотрудничеству в сфере культуры, в ходе которого государство обозначило свою заинтересованность в привлечении бизнеса к эксплуатации исторических памятников. Выяснилось, что частный бизнес был готов к вложению в репутационные социальные проекты, но государство настаивало на извлечении прибыли [5]. Я не идеализирую намерения бизнесменов, лишь хочу показать, что фрагментарность понимания общественного блага свойственна всем участникам процесса. Вот свежие новости из московского Зюзина: «Еще в 2006 году был прописан инвестиционный план, по которому застройщик софинансирует строительство блока начальных классов школы № 563 путем зачисления денег в бюджет г. Москвы» [6]. В 2016 году в этом здании открылась частная школа, а жители пятиэтажек, которые так и не снесли из-за дефицита средств, вынуждены возить детей в школы не по месту жительства.
Это исторически укоренившееся игнорирование наследия как общественного блага сегодня усугубляется отсутствием работающей системы охраны памятников, регламента управления собственностью культурного значения, а также отсутствием налаженной практики по сохранению городской застройки, которая бы не допускала изменения внешнего вида (при реконструкции) и внутреннего наполнения (при реставрации) исторических объектов.
Лишь простое перечисление инициатив и попыток выработать законы об охране наследия в Российской империи, СССР и России займет объемистый том.
Главным агентом в сохранении и использования наследия является само общество. Нынешняя практика на Западе исходит из идеи cultural diversity, наследие и мемориальные практики рассматриваются мировым сообществом как социальный инструмент интеграции разных общественных групп, гораздо более разнообразных, чем традиционная российская пара «интеллигенция vs народ». Роль граждан подверглась внимательному анализу в классической статье 1969 года Шерри Арнштейн [7]. Она подробно рассмотрела лестницу вовлечения общества на примере проектов по «модернизации городов» и «борьбы с бедностью» через градостроительные эксперименты в США. Арнштейн выделила несколько уровней взаимоотношений людей и власти: уровень «неучастия», уровень «символических мер» привлечения граждан к обсуждению градостроительных проектов, таких, как информирование и консультирование, и, наконец, уровень «гражданского управления». Интересно, что те проекты, которые тогда были приведены Арнштейн как наиболее успешные с точки зрения привлечения самих жильцов к формированию градостроительной среды, в конечном итоге были экспроприированы властью. Принципиально то, что этот неудачный опыт расселения тоже стал архитектурным и культурным наследием Америки и изучается студентами в университетах [8].
 Первые пятиэтажки на ул. Гагарина в Москве. 1967
Первые пятиэтажки на ул. Гагарина в Москве. 1967Лишь простое перечисление инициатив и попыток выработать законы об охране наследия в Российской империи, СССР и России займет объемистый том [9]. В 1920-е годы шло институциональное становление научных отделов и обществ защиты, которые были направлены на сохранение церквей, дворянских усадеб, частных коллекций, национализированных в 1918 году [10]. Институционализация экспертного сообщества прекратилась к началу 1930-х годов, когда ускоренная модернизация СССР сделала невозможной практически любую полезную деятельность по сохранению исторического облика городов. Недавно в Школе наследия в Москве историк Е.Б. Овсянникова прочитала доклад об охране памятников в 1920—1930-е годы, опираясь на документы и дневники личного фонда реставратора и специалиста по охране памятников Н.Д. Виноградова (1885—1980). Она упомянула типичный пример государственного распоряжения наследием в те годы: Китайгородскую стену пустили на щебень для строительства метро в 1935 году [11]. Такое циничное и недальновидное отношение, не говоря уже о распродаже музейных и церковных ценностей в 1930-е, стало лишь началом размежевания общества и государственных инициатив [12]. Охранная деятельность по защите исторической застройки, окружающей среды и краеведение были разгромлены в 1930-е годы [13]. С 1960-х они стали олицетворять нонконформистскую культуру [14]. Одновременно этот период стал началом официального регламентирования наследия: ратификация охранных соглашений и деятельности в 1960-е годы по всему миру стала тем стимулом, который подтолкнул к аналогичным мероприятиям в СССР. После создания Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) в 1965 году в стране было создано Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). В те же 1960—1970-е годы происходил массированный снос исторической застройки Москвы в связи с прокладкой новых магистралей, что активизировало общественное внимание к наследию [15]. Наследие рассматривалось активистами не как отдельные объекты, а как среда, наполненная историческими ассоциациями [16]. Однако, как показывает последующая история охраны памятников, расширенное понимание наследия не получило официального признания до сих пор.
 Снос исторической застройки на ул. Якиманка, Москва. 1960-е годы
Снос исторической застройки на ул. Якиманка, Москва. 1960-е годыВ 1976 году был принят закон «Об охране и использовании памятников истории и культуры». До распада СССР стана присоединилась к нескольким важным конвенциям, а после, уже в РФ, не было ратифицировано ни одной [17]. Надо отметить, что 1960—1970-е годы — переломный момент для государственных и общественных стратегий охраны наследия по всему миру. Последний всплеск строительства «прогрессивного города» в Монреале пришелся на период Олимпийских игр 1976 года, когда были снесены исторические постройки, после чего был принят закон о сохранении исторического города [18]. Так, владельцы любого дома в Монреале (традиционный материал строительства — дерево) обязаны получить разрешение на ремонт и реконструкцию дома в формах, размерах и во внешнем виде, соответствующих самой старой сохранившейся фотографии. Для городских властей не существует никакой временной границы понятия «памятник» для того, чтобы реконструировать здание по единому регламенту [19]. Во Франции в 1970-х годах была снесена историческая застройка для строительства многоэтажного социального жилья, которое, в свою очередь, частично снесли в 2000-е. Однако оно стало частью (проблемного) культурного наследия, память о котором необходимо сохранять. В России в 2000-е годы новая волна активизма столкнулась со старыми проблемами: отказ от привлечения граждан к участию в обсуждении судьбы исторических построек, снятие памятников с охраны за закрытыми дверями, редукционистское понимание наследия и т.д. Участие граждан ограничивается «символическими мерами» (по определению Арншейн), такими, как создание мобильного приложения «Активный гражданин», доступного небольшому кругу горожан. Даже это кажется избыточным официальным лицам, если судить по высказыванию одного из руководителей реконструкции ВДНХ, вынесенному в эпиграф № 1.
 Вырубка елей на ВДНХ в 2016 году© Федот Пухлов
Вырубка елей на ВДНХ в 2016 году© Федот ПухловС наступлением 2000-х появились некоторые положительные сдвиги, такие, как востребованность краеведения, рождение профессиональной журналистики о наследии, а также публикация путеводителей и специальной литературы по отдельным памятникам [20]. Однако основным препятствием для охраны наследия остается то, что не существует рутинной бережной эксплуатации и консервации памятников, как в случае с общественными зданиями, жилыми домами и индустриальным наследием, не говоря уже о зданиях и элементах городского пейзажа, которые потенциально могли бы стать памятниками через некоторое время. Отсутствие регламента и закрепившаяся практика сноса вызвали к жизни две формы защиты наследия в России.
 Акция против сноса Таганской АТС, Москва, 2016© Георгий Малец
Акция против сноса Таганской АТС, Москва, 2016© Георгий МалецПервая, самое распространенная и укорененная в истории, — это акции в защиту памятников под угрозой. Хронику нарушений в охране и учет требующих консервации и ремонта зданий ведет общество «Архнадзор» с 2009 года. Тот факт, что здания, находящиеся под защитой, из-под нее выводятся, делает этот способ самым адекватным, вернее, вынужденным. Активная деятельность общества выглядит диспропорционально ответственности государства, особенно по сравнению с теми странами, в которых государственные структуры благополучно выполняют возложенные на них функции. В США, в Нью-Йорке, активистов привлекают к мониторингу городских деревьев. В Канаде активизм чаще всего направлен на валоризацию альтернативного наследия. В России активисты — профессионалы, которые, чаще всего на добровольной основе, занимаются основополагающими вещами: отслеживанием зданий под угрозой и написанием заявок на их постановку на охрану [21].
 Дизайн-завод «Флакон». Москва
Дизайн-завод «Флакон». МоскваВторой подход родился из-за хронического отсутствия какой-либо альтернативы сносу исторических зданий. Активистами была предложена опережающая тактика: привлечение «архитекторов для разработки альтернативных проектов сохранения и использования памятников под угрозой» и системной работы с потенциальными инвесторами и архитекторами-исполнителями. Эта стратегия разрабатывается группой им. В.С. Мартыновича, образованной во время акций по защите Таганской АТС осенью 2016 года в Москве, в честь архитектора которой она и была названа [22]. Тактика была представлена на круглом столе «Что делать с авангардом?» в ноябре 2016 года, где обсуждались проекты использования инвесторами Дома Наркомфина, Хлебозавода № 9 («Флакон» и «Корабль Брюсов») в Москве, Белой башни в Екатеринбурге, фабрики «Красное знамя» в Санкт-Петербурге [23].
В научной и практической сфере в России понимание исторического памятника осталось на уровне первых десятилетий XX века. В мировой практике Вторая мировая война (1939—1945) стала тем рубежом, с которого началась новая история охраны и валоризации наследия. В работах 1940-х годов Морис Хальбвакс разработал концепцию коллективной памяти («La mémoire collective», 1950). Память стала рассматриваться не в терминах психологии, как частное дело, а как социальная реальность: ведь всегда существует набор образов и сюжетов, которые важны (или продвигаются как ценные) для определенной социальной группы. Применительно к концепциям «воображаемых сообществ» (Anderson, 1983) и «придуманных традиций» (Hobsbawm and Ranger, 1983) эта идея оказалась очень плодотворной для понимания наследия не как репертуара объектов, а как инструмента общественной жизни, одного из элементов взаимодействия социальных групп. Непосредственно в области практики наследия идея коллективной памяти получила свое дальнейшее развитие в работах Пьера Нора («Les Lieux de mémoire», 1984—1992). Он предложил концепцию «мест памяти», тех, которые наиболее полно кристаллизуют опыт общества. Lieux de mémoire он противопоставлял «живой памяти», которая конечна и персональна. Именно определение «мест памяти» позволило по-новому взглянуть на проблему сохранения наследия, которое стало восприниматься гораздо шире, чем набор объектов и материальная сохранность памятника.
В научной и практической сфере в России понимание исторического памятника осталось на уровне первых десятилетий XX века.
На первый план выдвинулись вопросы, «кого» представляет памятник, кто «имеет право» занимать то или иное место своими воспоминаниями и т.д. В Европе и в мире принято несколько конвенций, официально признающих такое расширенное понимание наследия. Назову лишь одну: это конвенция Фару (2005 г., вступила в силу в 2011-м), приятая Советом Европы, согласно которой «ценность объектов и мест признается не самих по себе, а из-за тех ассоциаций, значений и опыта, которые связаны с этими объектами в обществе». Так, во Франции активно происходит фиксация наследия многоэтажного социального жилья с архивированием историй жильцов [24]. Еще одна тема, которая будет еще больше набирать обороты, — это наследие иммигрантов. La Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration, занимающий павильон Парижской колониальной выставки 1931 года, проводит сбор воспоминаний для интеграции иммигрантов 1,5-го и второго поколения и для обеспечения «культурного разнообразия», понятия, которое зафиксировано в международных конвенциях по наследию [25]. Другими словами, не ценность отреставрированного объекта как такового, а его включенность в культурную и историческую среду стала важнейшим для понимания современного понятия наследия. Как ни печально это осознавать, из-за отсутствия системы защиты и элементарного поддержания зданий в рабочем состоянии России еще далеко до таких тонкостей, пока освоение элементарных правил реставрации и постановка памятников на охрану еще не поставлены на поток [26]. Кажется, говорить о многообразии культурных проявлений преждевременно. Однако расширение теоретической базы просто необходимо для упорядочения практики.
 Портрет В.И. Ленина по заказу Общества завода немецких иммигрантов. 1924. Москва
Портрет В.И. Ленина по заказу Общества завода немецких иммигрантов. 1924. МоскваВажным стимулом развития критического и контекстного подхода к наследию стала трагедия Второй мировой войны. Социолог Кай Эриксон («A New Species of Trouble», 1994) выдвинул идею коллективной травмы, которая формирует сообщества. И уже другой исследователь, Джеффри Александер, более подробно разобрал вопросы социальной травмы и конструирования идентичности и памяти, утверждая, что «культурная травма имеет место, когда члены некоего сообщества чувствуют, что их заставили пережить какое-либо ужасающее событие, которое оставляет неизгладимые следы в их групповом сознании, навсегда отпечатывается в их памяти и коренным и необратимым образом изменяет их будущую идентичность» [27]. Доминик Лакарпа сформулировал еще более точное определение травмы и его отношение к конструированию памяти и общественного наследия («Writing History, Writing Trauma», 2001). По его мнению, травмирующие события существуют всегда, а все члены общества — потенциально жертвы. Но в травме, которая формирует историю общества, конкретные события и разделение на палачей и жертв — не вопрос психологии, а вопрос политики. Одна из функций валоризации наследия травматизированных сообществ — проработка травмы в результате ее институционализации и коммодификации.
 Разворот журнала «СССР на стройке», посвященный строительству Беломорско-Балтийского канала имени тов. Сталина. 1933
Разворот журнала «СССР на стройке», посвященный строительству Беломорско-Балтийского канала имени тов. Сталина. 1933Наиболее детально эта проблематика тяжелого наследия была разработана в связи с Холокостом и репрезентацией трагедии в пространстве городов. В СССР существовала система лагерей ГУЛАГ, миллионы людей были высланы из своих домов в ходе коллективизации, как и национальные группы и сообщества. В СССР с 1930-х годов практиковалось строительство объектов заключенными, в городах до сих пор сохранились здания многочисленных институтов, которые были закрыты, а сотрудники репрессированы в ходе «культурной революции» 1928—1932 гг., объекты, построенные в ходе пропаганды советского строя в эпоху сталинизма и холодной войны. В России сейчас существует только одна инициатива, которая осуществляет идею коммеморации тяжелого наследия. Это частный некоммерческий проект «Последний адрес». Дома, в которых арестовывали жителей, отмечены мемориальными табличками, они создают новую коммеморативную карту Москвы. Это самое прямое и единственное отражение расширенного понимания наследия как травмы, представленное в России. Других тем — революция, коллективизация, диссидентская культура, национальные конфликты — не существует в российском общественном пространстве, однако все эти темы — наше наследие.
Если способы репрезентации репрессивных акций государства отработаны в Европе на примере национал-социализма и экспансии коммунистической идеологии, то коммунистическое наследие внутри страны как целый комплекс мер и образов по созданию новой культуры все еще не осмыслено. Можно смело утверждать, что в плане создания индустрии коммеморации СССР был лидером в XX веке. Нигде с такой последовательностью и в таком масштабе не было создано музейной сети, памятников и мест памяти.
Проблемой этой мемориальной инфраструктуры стал вопрос временной и типологической ценности объектов. Тут мнения официальных властей и активистов часто совпадают из-за выключенности России из мировой практики валоризации наследия. Так, до сих пор в России дебатируется вопрос, который был сформулирован в начале XX века: сколько нужно времени, чтобы объект стал «памятником», и стоит ли спасать и охранять памятники XX века или лучше сконцентрироваться на дореволюционных объектах (см. эпиграф № 2). Это искусственное разделение — на памятники старины и памятники современности — берет свое начало со времен революции, когда государство создавало комитеты по охране памятников и вырабатывало критерии защиты исходя из представлений о древности и уникальности, характерных для музейной и археологической мысли того времени. Сейчас защитники старины ссылаются на негативные последствия идеологизированного отношения к церквям и усадьбам, которые сегодня, как и в СССР, тихо гниют и разваливаются. Защитники молодого наследия приводят многочисленные примеры отсутствия консенсуса о памятниках XX века, из-за которого здания гниют и разваливаются. Однако практика защиты в равной мере плохо разработана как для древних, так и для новых памятников.
 Типография акционерного общества «Огонек». Архитектор Л.М. Лисицкий. 1930—1932. Москва
Типография акционерного общества «Огонек». Архитектор Л.М. Лисицкий. 1930—1932. МоскваЕсли наследие авангарда находит своих сторонников, то коммунистическое наследие начиная с 1930-х — все еще экзотика. При этом количество коммунистических мемориальных объектов и мест поражает воображение: мы все еще живем в цивилизации СССР. Индустрия массового производства — от памятников Ленину и типовых военных памятников до типовых жилых домов и общественных зданий — создала в России благодатную почву для того, чтобы пересмотреть консервативный подход к пониманию памятника как уникального явления. Например, в СССР практика создания мест памяти деятельности В.И. Ленина была поставлена на поток. Некоторые объекты ленинианы уже с 1930-х были новоделами, так как подлинные избы, хаты и шалаши Ильича были утрачены [28]. Позже, в 1960-е годы, в связи с пятидесятилетием революции и со столетием со дня рождения Ленина было открыто много музеев и установлено большое количество памятников, причем уже тогда бросалась в глаза некоторая скупость сюжетов. Так, в честь Октябрьской революции в 1968 году было установлено 23 памятника Ленину и даже несколько памятников космонавтам [29]. Сейчас портреты Ленина настолько примелькались, что воспринимаются как часть привычного пейзажа; мало кто задумывается, что за копированием Лениных стояла захватывающая история развития индустрии новой ультрамодернистской культуры. Сейчас эти памятники повсюду, и со старыми критериями уникальности к ним не подойти.
 Страница из альбома, посвященного памятникам В.И. Ленину в Москве и Московской области© Архив Московского союза художников
Страница из альбома, посвященного памятникам В.И. Ленину в Москве и Московской области© Архив Московского союза художниковНедавно московские реставраторы-добровольцы обратились ко мне с просьбой прокомментировать историю барельефа В.А. Андреева с портретом Ленина, сохранившегося на стене одного из московских домов. Этот барельеф был не авторским уникальным памятником, а одной из многочисленных ранних копий портретов Ленина, производство которых было налажено сразу после его смерти в 1924 году. В этой истории с ленинианой каждый нашел бы что-то интересное для себя: теоретики — прекрасный материал для анализа культуры модернизма в контексте работ Вальтера Беньямина («Автор как производитель», 1934 г.; «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», 1936 г.). В последнем эссе речь шла не о сокрушениях по утраченной ауре, а как раз о способах создавать новые традиции общественного пространства [30]. В свою очередь, краеведам такие памятники дают ценный материал для раннесоветской истории локальных инициатив и городского пространства, следов которых почти не осталось в Москве. То, что они задавали специфическую и особую культуру общественной жизни — спорить не приходится, теперь их можно музеефицировать и оформить в наследие. Критические коммеморативные практики в отношении Холокоста, геноцида армян, судеб социального жилья и многих других трагических и тяжелых тем, разработанные в мире, дают эмпирический материал для такой работы.
В плане создания индустрии коммеморации СССР был лидером в XX веке. Нигде с такой последовательностью и в таком масштабе не было создано музейной сети, памятников и мест памяти.
Еще одной стороной этой коммунистической инфраструктуры памятников, табличек и мест памяти является их выключенность из жизни, заброшенность и повсеместность. Так, музеи Ленина были во всех местах, где Ильич останавливался хоть на несколько дней. Вот, например, в современном документе с обозначением охранных зон Москвы взгляд быстро выхватывает: «Здание Солдатенковской больницы, где 23 апреля 1922 года Ленину Владимиру Ильичу была сделана операция по извлечению пули» (полную карту охранных зон см. здесь). Стоит ли говорить, что этот памятный знак никак не прокомментирован, он просто есть. Кому он «принадлежит» как памятное место?
Скоро будет столетний юбилей двух революций 1917 года. Сейчас декабрь 2016 года: до сих пор нет никаких инициатив по переосмыслению столетия революций как события, оставившего колоссальное мемориальное и визуальное наследие. Сбор информации о памятниках и памятных местах отсутствует, нет понимания ценности исторических памятников из-за спорности самого события двух революций. Все еще кажется, что революция всегда рядом, но это не так: не памятники рушатся, а те ассоциации, воспоминания и контексты, которые были созданы вокруг них.
 Нарымский музей политической ссылки
Нарымский музей политической ссылкиПриведу только один яркий пример, как сохранившиеся объекты могут разрывать смысловые связи между обществом, местами и памятью. В СССР было создано большое количество музеев царской ссылки, рассказывающих о зверствах царизма и мужестве будущих партийных лидеров. В СССР была создана система ГУЛАГа, которая просуществовала с 1930 по 1960 год, насчитывающая 30 000 мест заключения. Сейчас существуют Сольвычегодский историко-художественный музей, Нарымский музей и многие другие, которые все еще экспонируют быт царских политкаторжан. Например, музей «Вологодская ссылка» был создан в 1937 году как музей, посвященный ссылке И.В. Сталина; с 1956 года он существовал как Дом-музей революционной деятельности большевиков в вологодской ссылке; а с 1969-го — как Дом-музей М.И. Ульяновой. В Вологодской области было большое количество объектов системы ГУЛАГа, но школьники гораздо больше могут узнать сегодня о «царской ссылке», чем о недавнем прошлом.
Новоделы и практика реконструкции вместо реставрации играют важную роль в создании официальных версий прошлого. Создание новоделов де-факто узаконено в России [31]. Более того, за них реставраторы получают награды. Свежий пример. На станции метро «Киевская» (Филевская линия) в Москве сбили плитку, пообещав ее тщательно воссоздать [32]. За эту работу исполнители удостоились награды от Росреставрации, другие памятники — такие, как ВДНХ, — сегодня продвигаются как объекты культурной дипломатии (см. эпиграф № 3). Новодел — редукционистское понимание сразу двух ультраконсервативных феноменов в культуре XIX—XX веков. Во-первых, практика зиждется на понятии исторического памятника [33]. В самом общем виде исторический памятник — это изолированный археологический предмет изучения знатока и антиквара. Во-вторых, практика реставраций XIX века была основана на т.н. идеальных реставрациях. Классик советской реставрации XX века Игорь Грабарь критиковал задачи реставраторов дореволюционного времени, которые ставили своей целью «убрать позднейшие наслоения, но не добавлять ничего нового», однако те же претензии, но в завуалированной форме, возникали у него применительно к советской практике [34]. Это неразличение реставрации и реконструкции сохранялось и позже. Более того, популярная на Западе практика демонстрации разных исторических слоев памятника также не применяется сегодня — по крайней мере, по отношению к наследию XX века. Другими словами, история не признается сложным и многоактным процессом.
 Исторический парк «Россия — моя история» в павильоне № 57 на ВДНХ
Исторический парк «Россия — моя история» в павильоне № 57 на ВДНХРеставрация ВДНХ может служить хрестоматийным примером. Она проводится с 2014 года и включает все перечисленные выше особенности редукционистского отношения к наследию в России. Это не только практика снятия с охраны, незаконного строительства, неточной реставрации и активного строительства новоделов, но и игнорирование исторических проблем, спрямление реставрации до объекта антикварного интереса, где ничем не обоснованное единство фасадов ценится выше, чем сложная и драматическая история, стоящая за комплексом. Объявлено, что павильоны будет отреставрированы в варианте 1954 года, для чего в срочном порядке были демонтированы более поздние фасады. При этом некоторые павильоны 1939 и 1954 годов разрушены для строительства современных копий [35]. Нет ни музеефикации деятельности ВСХВ—ВДНХ—ВВЦ на протяжении десятилетий, ни публикации материалов по ее функционированию. Такая практика реконструкции «оригинала», который часто невозможно верифицировать, создает выдуманные реалии, где трудно найти что-то ценное и аутентичное для горожан. Павильоны выставки наряду с коммунистическими символами наполняются пропагандой православия, «самый большой каток в Европе» и художественные выставки, принципиально экспонирующие неидеологизированную версию советского искусства, создают новые традиции с помощью замалчивания трагической истории ансамбля.
 Интерьер церкви Спаса Всемилостивого в селе Архангельское Немского района Кировской области. 1780 г., мозаики — 1970-е годы. В церкви сейчас идет ремонт© Екатерина Лелеева
Интерьер церкви Спаса Всемилостивого в селе Архангельское Немского района Кировской области. 1780 г., мозаики — 1970-е годы. В церкви сейчас идет ремонт© Екатерина ЛелееваСегодня проблемы наследия, особенно наследия СССР, разнообразны и требуют обновления методологии. Необходимо признать историю процессом гораздо более многосоставным и сложным, чем идея национального триумфа, а также признать социальную ценность наследия. Редукционистское понимание истории и наследия при отсутствии консенсуса и регламентации выявления и постановки на учет памятников создало очень тяжелую ситуацию. С одной стороны, заново набирают силу выдуманные традиции, которые вытесняют историю городских сообществ и травматичную историю России XX века за пределы общественного внимания. С другой, инфраструктура коммунистического наследия до сих пор определяет культурный и мемориальный ландшафт страны. Оба положения создают отчужденное пространство, в котором памятники и сообщества существуют сами по себе.
[1] Ekaterina Pravilova. A Public Empire: Property and the Quest for the Common Good in ImperialRussia (Princeton, 2014).
[2] Заявление общественного движения «Архнадзор», 2011 г., «Сноб»
[3] Департамент культурного наследия города Москвы
[4] «На снос Сносной комиссии», 2015 г., «Архнадзор»
[5] «Что окупит культуру (?)», 2016 г., «Артгид»
[6] «Несносимые пятиэтажки», 2016 г., «Зеркало»
[7] Шерри Р. Арнштейн. Лестница гражданского участия. 1969
[8] Model City Hues: Dixwell, Yale and New Haven, 2016 г., Yalepaprika.com
[9] Охрана культурного наследия России XVII—XX вв. Хрестоматия / Сост. Карпова Л.В., Потапова Н.А., Сухман Т.П. — М., 2000; В.П. Лапшин. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году. — М., 1983; Кульчинская Е.Д., Рыцарев К.В., Щенков А.С. Памятники архитектуры в Советском Союзе. Очерки истории архитектурной реставрации. — М., 2004; Музееведческая мысль в России XVIII—XX веков: сб. документов и материалов. — М., 2010
[10] Е.Б. Овсянникова. Из истории комиссии Моссовета по охране памятников // Советское искусствознание'81, 1982, вып. 2, с. 263—330; Е.Б. Овсянникова. Китайгородская стена. Реставрация перед сносом. Статьи, дневники, чертежи, фотографии из архива Н.Д. Виноградова. — М., 2015
[11] Москва эпохи перемен. Деятельность по охране наследия. 1918—1930
[12] Е.А. Осокина. Золото для индустриализации: Торгсин. — М., 2009
[13] Douglas R. Weiner. A Little Corner of Freedom: Russian Nature Protection from Stalin to Gorbachev (Berkeley, 1999); Victoria Donovan. «How Well Do You Know Your Krai?» The Kraevedenie Revival and Patriotic Politics in Late Khrushchev-Era. Russia Slavic Review, Vol. 74, No. 3 (Fall 2015), pp. 464—483
[14] Катриона Келли. «Исправлять» ли историю? Споры об охране памятников в Ленинграде 1960—1970-х годов // Неприкосновенный запас, 2009 г., № 2(64)
[15] Анна Броновицкая, «Мечты о Западе и о коммунизме», Openleft
[16] Д.С. Лихачев. Четвертое измерение // Литературная газета, 10 июня 1965 г., с. 3
[17] Законодательство РФ о наследии, ВООПИиК
[18] Martin Drouin. Le combat du patrimoine à Montréal (1973—2003) (Montréal, 2005): 193—197
[19] Le Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal
[20] Н.Н. Броновицкая, А.Ю. Броновицкая. Архитектура Москвы. 1920—1960. Путеводитель. — М., 2006; Васильев Николай, Евстратова Марианна, Овсянникова Елена, Панин Олег Красная книга. Москва. Архитектура авангарда. Вторая половина 1920-х — первая половина 1930-х. — М., 2011; Васильев Николай, Воронцова Татьяна, Овсянникова Елена при участии Андрея Туканова, Михаила Туканова, Олега Панина. Архитектура Москвы периода НЭПа и первой пятилетки. — М., 2014; Токарев А.Г. Архитектура Ростова-на-Дону первых пятилеток (1920—1930-е гг.). — Ростов-на-Дону, 2015; Екатеринбург. Архитектурный путеводитель. 1920—1940. — Екатеринбург, 2015; Зуева П.П., Селиванова А.Н., Старков И.В. Купальня Рогожско-Симоновского района. — М., 2016; Р. Рахматуллин, К. Михайлов, Н. Самовер. Осторожно, Москва! Хроники «Архнадзора». — М., 2016; Михаил Тимофеев. От «красного Манчестера» к «красному Диснейленду». Конструктивистская архитектура и стратегии позиционирования города Иванова. Quaestio Rossica, № 3 (2016)
[21] Тексты Натальи Душкиной в архиве на Archi.ru, один из недавних текстов Александры Селивановой «12 разрушающихся зданий московского конструктивизма» (журнал «Стрелка»), текст Анны Броновицкой «От ВСХВ к ВДНХ: трансформация выставочного ансамбля в Останкино в конце 1950-х — 1960-х гг.» (Эстетика «оттепели». Новое в архитектуре, искусстве, культуре. — М., 2013) и многие другие.
[22] Елена Овсянникова, «Связь времен», Archspeech
[23] Видео круглого стола здесь. См. также: М. Хрусталева. Архконверсия в масштабах страны // Проект Россия, Культура, 2016, № 80, с. 90—93
[24] Rachid Kaddour. Prise en compte de la pluralité des mémoires d'habitants dans la «patrimonialisation» des grands ensembles. EchoGéo, 33 (2015)
[25] См. по России: О.В. Соболевская. Мигранты-школьники нуждаются в особой поддержке. ВШЭ, 2015
[26] В США в списке памятников более миллиона сооружений, каждый год добавляется 30 тысяч. В Канаде список памятников был создан лишь в 2001 году и на сегодняшний день содержит 17 тысяч охраняемых мест федерального уровня, при том что в одной только провинции Квебек под муниципальной защитой находятся 60 тысяч объектов. Для сравнения: в России на 2016 год «зарегистрировано 120 924 памятника, из них <…> в едином государственном реестре объектов культурного наследия <…> числится 30 197 объектов».
[27] Д. Александер. Культурная травма и коллективная идентичность // Социологический журнал. 2012. № 3. С. 5—40
[28] Где жил Ильич в ссылке (Музей в Шушенском) // Советский музей, 1931 г., № 1, с. 97—99; А. Медведева. Реставрация двора и сада при Доме-музее В.И. Ленина в Ульяновске // Советский музей, 1932 г., № 1, с. 27—29 (и т.д.)
[29] Архив библиотеки Академии художеств в Москве. 26-я сессия Академии художеств СССР. Москва. 1967. С. 113—114
[30] «…в тот момент, когда мерило подлинности перестает работать в процессе создания произведений искусства, преображается вся социальная функция искусства. Место ритуального основания занимает другая практическая деятельность: политическая. В восприятии произведений искусства возможны различные акценты, среди которых выделяются два полюса. Один из этих акцентов приходится на произведение искусства, другой — на его экспозиционную ценность». Вальтер Беньямин. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости (1936)
[31] Виктор Борзенко, «Реставраторы-терминаторы», 2008 г., «Новые Известия»; Армен Арутюнов, «Муляжи памятников и памятники муляжам», «Свежая газета. Культура», № 20 (108), 2016 г.
[32] См. также: Наталия Душкина. Между «метроансамблем мирового значения» и «подземкой» — 2 (2015)
[33] Françoise Choay. The Invention of the Historic Monument (Cambridge, 1999)
[34] Игорь Грабарь, «Реставрация у нас и на Западе» (1926); Келли
[35] «ВДНХ — достопримечательная и неохраняемая территория» (2015), «Архнадзор»
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРуководитель «Теплицы социальных технологий» Алексей Сидоренко разбирает трудности антивоенного движения и выступает с предложением
24 января 202330777 Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Colta Specials
Colta Specials Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиМаленький путеводитель по самому необходимому для вашего спокойствия и продуктивности — от новых цифровых сервисов до практик XIX века
26 декабря 202259612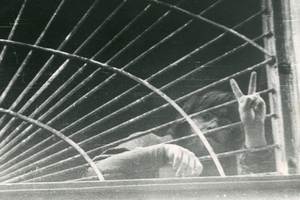 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиРазговор о полезных уроках советского диссидентства, о конфликте между этикой убеждения и этикой ответственности и о том, почему нельзя относиться к людям, поддерживающим СВО, как к роботам или зомби
14 декабря 202276238 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиИзвестный социолог об огромном репертуаре неформальных практик в России (от системы взяток до соседской взаимопомощи), о коллективной реакции на кризисные времена и о том, почему даже в самых этически опасных зонах можно обнаружить здравый смысл и пользу
5 декабря 202242041 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиЧто становится базой для массового протеста? В чем его стартовые условия? Какие предрассудки и ошибки ему угрожают? Нужна ли протесту децентрализация? И как оценивать его успешность?
1 декабря 2022104600 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиСможет ли Web 3.0 справиться с освобождением мировой сети из-под власти больших платформ? Что при этом приобретается, что теряется и вообще — так ли уж революционна эта реформа? С известным теоретиком медиа поговорил Митя Лебедев
29 ноября 202262540 Вокруг горизонтали
Вокруг горизонталиГоризонтальные сообщества в военное время — между разрывами, изоляцией, потерей почвы и обретением почвы. Разговор двух представительниц культурных инициатив — покинувшей Россию Елены Ищенко и оставшейся в России активистки, которая говорит на условиях анонимности
4 ноября 202242626