 Современная музыка
Современная музыкаDvanov. «Гиперпустырь»
Городские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы
25 ноября 20211541 © Colta.ru
© Colta.ruВчера закрылась выставка Эрика Булатова в Манеже. COLTA.RU представляет видео и сокращенную текстовую версию экскурсии куратора и историка искусства Андрея Ерофеева по выставке.
Булатов — это русский Тициан. В том смысле, что Тициан прожил от раннего до позднего Возрождения — это такой человек, который объял всю эту эпоху, он конгениален эпохе. Чтобы понять итальянский Ренессанс, можно изучать творчество Тициана. Вот так и Булатов: это человек, через которого можно понять русское искусство, русско-советскую культуру на ее излете, доживающую и изживающую сейчас уже из себя какие-то элементы советские, этот период второй половины ХХ века. И именно как Тициан, затронувший самое начало, Булатов тоже художник, который соприкоснулся с самым ужасом. Он учился в Суриковском институте в самый худший период: это конец сталинизма — начало 1950-х годов, ему было 20 лет в год смерти Сталина. Последние годы перед смертью диктатора были самым мрачным временем для русской культуры, готовилась вторая волна репрессий, а в художественной среде господствовали чудовищные тенденции, и Булатов выучился на академического художника.
Он был блестящий рисовальщик, как рисовальщик был на хорошем счету, получил медаль и право поехать в Индию. Потом в какой-то момент он сотворил первую и последнюю социальную акцию — поднял студенческий бунт против академиков, которые засели в преподавательском составе и, почитай, до сих пор там сидят. Бунт, как всегда, закончился разгромом: вместо золотой медали он получил серебряную или вообще никакой не получил. С тех пор он как-то зарекся участвовать в социальных акциях, что большинству художников-нонконформистов (людей, которые сформировали здесь художественную культуру заново в ее подпольном состоянии в 1960—1970-е годы) вообще-то свойственно. Хотя художники — люди, реагирующие на социальную проблематику, идеологию и сделавшие много для того, чтобы сокрушить советскую власть, советскую систему мышления и вообще этот тоталитарный режим, они, в отличие от художников современных (группы «Война», Pussy Riot и т.д. — фигур значительных в культурном и политическом плане), напрямую в социальных акциях не участвовали. У художников-нонконформистов 1960—1980-х годов такого поведения, как правило, не было. Все высказывание производилось через посредника, которым было произведение искусства — картина, объект. Это важная черта, и у Булатова она особенно существенна. Культура нонконформизма в этом смысле достаточно традиционная: художник доверяет своему носителю, картине, и он — не перформансист. В этом основное отличие современной культуры, в которой художник, даже если он пишет картины, находится в ситуации перформанса — он из этой картины высовывается, выступает как персонаж, надевает на себя маски: с одной стороны, это Кулик, с другой — совершенно бездарный Никас Сафронов (он тоже вылезает и пытается соблазнять рядом со своими картинами). У Булатова этого нет. У него есть его картины, и эти картины не биографичны: они ничего не говорят о судьбе Булатова, о его семье, хотя тут появляется Наташа — его жена, но это некий объективированный мир, отделенный от переживания, от страстей, непосредственных эмоций; это не экспрессионистский язык, который был свойственен русской культуре начала ХХ века — Кандинскому, Ларионову, где все очень через себя и автор тоже присутствовал в картине. Почему я говорю «перформативность»? Она не только у Кулика, но и у Ларионова, Маяковского. А вот в этом искусстве (у Булатова. — Ред.) перформативности никакой нет, оно в этом смысле — холодное, вы не чувствуете здесь горячности, человек не пытается вас заразить дрожащим мазком Ван Гога или еще чем-то, все очень спокойно, уравновешенно, и вот это первое ощущение, которое может у вас возникнуть, — оно должно вас, на мой взгляд, от Булатова отодвинуть: «Ну, какие-то картинки висят». Первоначально нет такого ощущения, чтобы вас эти картинки хватали, тащили и что-то такое говорили. Но на самом деле это очень интересная и сложная система, глубокая по переживаниям. Постараюсь вам об этом рассказать в хронологической последовательности.
[Когда Булатов] заканчивал свое академическое обучение, поняв, что оно уводит его не только от искусства ХХ века, но и вообще от жизни, что тем описательным языком, которому его научили в академии, ничего высказать про современную жизнь нельзя, он идет учиться параллельно к Роберту Фальку, нашему знаменитому художнику еще первой половины ХХ века, — сезаннисту, человеку, близкому к кругу «Бубнового валета», такому «кубо-сезаннисту». Поздний Фальк, которого встретил Булатов, — апологет живописи, у него, условно говоря, такой серо-фиолетовый кисель, в котором тают какие-то женские фигуры, пейзажи, и весь этот кисель — это такая густая живописная среда, формирующая сложную, неглубокую, вибрирующую поверхность картины; он совершенно разрушил академизм. Советский академист ни о чем в картине не думал, он думал про тракториста, про доярку, и на этом фоне Фальк как альтернативная фигура, редкий художник, который выжил в сталинское время, не выставлялся, а работал в мастерской один, он обучал этой системе живописного восприятия, переложения мира, создания цельного, слитного предмета картины. И Булатов начинает писать в таком духе: когда небо, горы, расщелины, долины — все эти резкие контрасты природы сглажены, все это так вибрирует на небольшой глубине, на небольших цветовых регистрах, чтобы сохранить такую, знаете, цельность образа. Здесь доминируют цвета зеленовато-синевато-коричневые — любимые цвета Сезанна, которые Фальк подправил на более темные. Поэтому есть целый ряд похожих булатовских опытов, напоминающих Фалька. Но в какой-то момент в начале 1960-х годов Булатов почувствовал, что эта успокоенная живопись Фалька — как колеблющееся море нефти, такая пленочная колеблющаяся фактура (он, кстати, такую систему передал многим художникам следующего поколения, например Вейсбергу) — начинает его не устраивать, и он начинает ее усиливать, пережимать, мять.
Булатов — это русский Тициан.
Эти «смятости» — стартовая позиция Булатова, переживание, что с миром, который изображен на картине, можно активно взаимодействовать, можно начать его мучить, пытаться его вскрыть. Для чего это пластическое, почти скульптурное поведение? Сначала он пишет живописную поверхность, а потом начинает ее «комкать», но не для того, чтобы вылепить из нее скульптуру, которая бы вылезла вперед, а скорее для того, чтобы ее продырявить, через нее прорваться. И у него возникает мотив дыры. Сначала он пишет достаточно спокойную вещь, а потом усиливает и начинает мять, чтобы в этом комке найти глаз, углубление, и это углубление — либо темное, либо светлое — оно присутствует во всех работах, оно ищет свое положение в самых ранних вещах и приближается к центру, оно пока не встало, но уже приближается. В какой-то момент он выходит к мотиву туннеля, цепляясь за некий сюжетный мотив метро, наверное, или автомобильного туннеля. Существенно, что картина обретает конструкцию, где очень важным элементом является центр как дальняя точка, к которой устремляются эти очень проявленные диагонали. Диагональ идет не сверху вниз по картине, как обычно падающая диагональ из верхнего угла в нижний; обычно диагонали — это падение вдоль. Здесь диагональ им воспринимается как некий прорыв внутрь, скольжение, усиленное светящимися дорожками в виде лампочек. Этот мотив прорыва его очень занимает. Например, он мне рассказывал, что в тот момент он ходил на операции в больницу и очень интересовался моментом вскрытия поверхности кожи и погружением внутрь, уходом внутрь тела. Такое просверливание, и это просверливание — не прорыв этой передней живописной поверхности. Булатов не хочет взять и прорезать картину, сделать в ней дырку, это совершенно неправильное толкование, когда Булатова соотносят с художниками, которые таким образом преодолевали картину. Булатов как раз картину не преодолевает, для него важно, что картина всегда есть, но есть и некий второй план, это выражено и колористически. И между первым и вторым планами есть этот туннель, расстояние, которое их разделяет. Одновременно, когда он приходит к работе «Туннель», он начинает осмыслять его как некую устойчивую конструкцию картины, что бы эта картина ни изображала — туннель, расщелину, дыру; он начинает осмыслять картину как некую энергетическую, пространственную и плоскостную структуру, которая имеет разные смыслы, визуальные значения в разных своих точках. Он воспринимает картину как такой засасывающий туннель, водоворот, трубу и еще довольно активные верхние и нижние углы, которые тоже имеют свою энергетику и какой-то другой смысл; они не связаны с этой дырой, они с ней сосуществуют как некие элементы остаточной поверхности, они держат поверхность, не давая ей прорваться в такой иллюзорный прорыв. Для Булатова вообще очень важно сохранить ощущение дихотомии картины — она и плоскость, и пространство; и краска, и цвет; и то, и другое. Этот элемент и лишает ее натуралистичности. Он не натуралистический художник, он удерживает впечатление, что перед нами все-таки плоскость.
Сделав такую схему и осмыслив таким образом картину, он продолжает свое осмысление картины как некоего организма введением текста. Он был одним из первых художников-нонконформистов, которые после опыта утраченной авангардной традиции, когда в картины вводились тесты (это было у Ларионова, у футуристов и т.д.), вводят слова, комментирующие эту картину, ту конструкцию, которую в этой картине увидели. Комментарии не только в словах, но еще и в краске, в цвете: с одной стороны, есть плоскость, которая неразрушаема и связана с красным цветом — это цвет активный, идущий на зрителя, он вас вглубь себя не пускает, если вы смотрите на красный цвет — он очень плоский, никакой глубины не может быть, это цвет, идущий на вас вперед, это его известное физиологическое свойство. И, с другой стороны, голубой — цвет пространственности, воздуха, глубины. Эти два цвета он противопоставляет: один предполагает пространственность, другой — плоскость. С этими двумя элементами Булатов начинает работать: сначала он нашел в картине возможность прорыва глубины картины, который он осмысляет как некий уход вглубь, далее есть некая плоскость, барьер, граница, препятствие, почему-то мешающее вам зайти в эту глубину, в этот тоннель. Такова структура булатовских картин, которая уже потом раскрывается на разного рода уровнях, основных мотивах. Например, картина «Слава КПСС», одна из самых известных его работ, достаточно скандальная, потому что к ней плохо отнеслись представители альтернативной советской культуры, считая, что Булатов здесь решил вдруг играть с дьяволом вместо того, чтобы отрицать все это. Действительно, эта работа изображает советский лозунг, который очень часто висел на карнизах домов — такие огромные буквы из металла, часто красные. Эта работа может быть воспринята как поп-артистская вещь. Поп-артисты рисовали американский флаг, рекламу, играя с ней — воспроизводили ее, одновременно каким-то образом разворачивали, пародировали. Многие эту картину воспринимают таким образом, что совсем неверно, потому что Булатов — вообще не человек поп-арта, поскольку имеет одно свойство: он совершенно лишен иронии. Он совершенно не иронический, не пародийный художник, он сугубо серьезный художник, не приемлющий, чтобы в картине была какая-то игра, ирония, для него здесь все существенно и важно. Поэтому что он в этой картине хочет сказать? Что есть эти советские лозунги, которые висят повсеместно, украшают пространство часто и внутри, и снаружи и реально закрывают нам небо, мы жизни без них не видим. Но, с другой стороны, используя свое ощущение, что есть в картине глубина и прорыв, он начинает работать над тем, чтобы создать иллюзию, что есть эти плоские буквы, а за ними есть как бы от них оторвавшееся небо. Он об этом не говорит, но пытается дать себе и другим почувствовать это пространство. Надо увидеть, что это небо как бы имеет глубину, а эти облака поплыли, они не приклеены к этим словам. Есть плоскость слов, в них нет глубины, а за ними — уходящая даль, облака здесь близко, а дальше они уходят. И в этот пространственный зазор вы можете просочиться взглядом, физически просочиться, как в ту дырку, с которой он работал. Можете через букву «С» или букву «П» (тот, кто потоньше) как бы пройти туда и оказаться за буквами и в том пространстве, где есть только облака, небо, — вот, собственно, визуальная мысль. Он не говорит вам: «Свобода — если вы возьмете топор, уничтожите эти буквы к чертовой матери и вздохнете свободно». Идея, что можно пройти через это и выйти к другому переживанию жизни. Идея выхода в другой мир, в другое состояние, где нет социального, идеологии, — одна из центральных идей в нонконформистской и вообще альтернативной культуре. Официальная культура была погружена в социальные заказы, рисовала какие-то социальные типы, персонажей, вождей или тружеников. А неофициальная всегда преследовала цель куда-либо увести зрителя: вглубь истории или, как у Плавинского, в такое состояние, где как бы выкачан воздух; в состояние вечности, как у Краснопевцева; у Вейсберга это было белое пространство, в котором какие-то геометрические фигуры, — в общем, куда-то улететь, воспарить; культура как средство и инструмент ухода от советской реальности. Это то, что было характерно для всех — и для поэзии, кстати говоря, и литературы этого времени. И уйти надо было обязательно в ту реальность, у которой другой язык, другие реалии. У Булатова как раз совершенно другая установка: он говорит, что уйти можно, только поняв, где ты находишься. Ты должен это осмыслить, зафиксировать и потом уже уходить — и в правильный момент, потому что можно уйти в неправильном направлении. Правильное направление для него — выход в состояние вневременного, географически неопределенного. Это не Париж, например; нет там Парижа, Нью-Йорка. Это место не определено никаким образом. Это выход не просто в определенное состояние мира, но в состояние сознания, которое называется в психологии «океаническим чувством» — понятие, введенное с легкой руки Ромена Роллана в 1930-е годы, его использовал Фрейд. Это выход в мир, где вся эта бытовая, географическая, временная конкретика отсутствует. [Это ощущение] есть в космосе либо в океане, в общем, в чем-то гигантском, безбрежном, бесконечном, в котором мы себя чувствуем элементом этого, а этот космос, открывающийся нам, не контролируем. Выход в это состояние из некоего замкнутого пространства, из этой ситуации закрытости и изоляции и есть для Булатова счастье, свобода.
Булатов создает «советскую» серию как серию испорченных картин.
Булатов был одним из немногих, наверняка самым сильным из художников, кто проблематизировал эту границу и говорил о том, что граница-то есть, «железный занавес» есть. Есть желание за него выйти, но еще есть этот занавес, перед которым мы находимся. Что эта граница — она для нас проблема и мы должны ее хорошо видеть и понимать. «Слава КПСС» стоит в ряду произведений Булатова, которые называются «советская серия». Это, наверное, его самая известная серия, хотя мне кажется, что это не самое главное, что хотел сказать Булатов, потому что эта серия описывает тот мир, из которого он рвется, а не в который он стремится. И началась она с работы «Красный горизонт». Задача, которую Булатов себе ставил, была в том, чтобы описать эту особенную советскую жизнь визуальными изобразительными средствами. Данная работа — одно из первых таких идеально найденных описаний. Возникла она так: он в компании с Кабаковым и Олегом Васильевым часто ездил на Балтику. В какой-то момент он подвернул ногу или что-то с ним случилось, и он оказался там в санатории, прикованный к постели, — смотрел на море и видел что-то подобное (тому, что на картине. — Ред.). Из-за того, что нога была сломана, он не мог подняться, ему всегда мешала балконная балка, которая перекрывала горизонт. И он начал размышлять, почему эта балка ему так мешает, имея уже этот опыт картины как продвижения внутрь, этого туннеля, прорыва. И оказалось, что если картину вдруг лишить горизонта, то есть дальней линии, к которой движется наш взгляд, если в этом ощущении пространственности взять и перекрыть эту центральную линию, то тогда из нее уходит воздух. В ней становится просто невозможно дышать. В ней нарисованы люди, они идут, а движения нет. Нарисованы море, небо, пляж, но никакого ощущения воздушности нет. Это все убито красной дорожкой, которая легла и перекрыла горизонт, — дело не в том, что она красная, дело в том, что закрыт горизонт. Отсюда возникает ощущение визуального дискомфорта. Булатов создает «советскую» серию как серию испорченных картин. Художник намеренно пишет картину и потом ее портит, делает из нее нечто неприятное для восприятия. Это не апология советскости, не просто констатация советскости, это создание такой визуальной структуры советского мира, при которой он вам неприятен. И прежде всего потому, что для Булатова важен момент пространственности, а зажатость, запреты — это то, что нашу жизнь все время подкарауливает на каждом шагу. Стремление выскочить, вырваться, преодолеть эти запреты развито в нас больше, чем в ком бы то ни было, поэтому он на это и реагирует. [В картине «Добро пожаловать»] он говорит о лжи советского языка. То, что у нас подавалось как утопия социально устроенного общества, оказалось чем-то вывернутым. Все слова вывернуты наизнанку, и это высказывание, наложенное на вид ВДНХ, не приглашает нас, а закрывает всякую возможность продвижения.
Художник, который портит свои картины, чтобы породить в зрителе такое социальное переживание, — это очень необычно. Надо быть смелым человеком, чтобы намеренно создавать плохие картины. В ХХ веке есть такие примеры, но их не так много. Кстати, Илья Кабаков — художник-концептуалист, друг Булатова, — один из немногих авторов, способных создавать намеренно плохие картины, чтобы через них каким-то образом влиять на зрителя. [Картина «Советский космос»] — довольно любопытный парадный портрет: с одной стороны, Брежнев смотрит на нас свысока, как обычный памятник, Брежнев как бы над нами, а мы — внизу, под ним. Но на самом деле мы выше, чем Брежнев. Очень странная ситуация: с одной стороны, Брежнев над нами, с другой стороны — он куда-то провалился. Провал парадного портрета и есть ключ к этой вещи. Тут парадный портрет, который по идее должен быть на месте этого герба — то есть персонаж над вами нависает, это крупная фигура, занимающая большую часть, две трети высоты холста обычно, если вы посмотрите на все парадные портреты, начиная от Сталина-Ленина и заканчивая королями, — как бы сполз, был наверху и вдруг раз — и сполз. Важен не лично Брежнев. Он был в обрамлении знамен, а потом оказывается, что есть этот герб, и этот герб изображает солнце, но оно выглядит не солнцем, а некоей металлической выкладкой. И на самом деле никакого света, особого свечения в этом солнце нет.
Во второй половине 1980-х годов Булатов начал выставляться на Западе, а потом и уехал. Он не эмигрировал, просто у нас выставок было мало, а там появились предложения. Он был сразу очень тепло принят в Европе, получил персональную выставку в Центре Помпиду, что редко случается с неевропейскими художниками при жизни. Сначала он поехал в Штаты, в Нью-Йорк, не очень там прижился, в конце концов переехал в Париж. С тех пор Булатов живет в Париже, регулярно бывает в Москве, и многие его вещи посвящены Москве, но некоторые — и Парижу. Например, работа, изображающая Лувр («Лувр. Джоконда». — Ред.): это музей, где висит «Джоконда». Эта работа сделана уже в постсоветский период, но что интересно: противостояние красного и иного пространства у Булатова остается. Эта неприязнь к социальности; социальность — это не просто Брежнев, идеология или какие-то лозунги. Социальность как состояние, как некое отношение к миру, социальный план взаимодействия с миром — это то, что для Булатова неприемлемо, неинтересно, и для него кажется важным, чтобы человек через это перешел. Это тоже очень характерное отношение шестидесятников и вообще культуры нонконформизма к жизни. Если вы посмотрите Целкова — страшные рожи, люди с топорами или с арбузами, ужасные какие-то монстры, отвратительные, тупые персонажи. Просто ненависть! Это же не советские, не партийные люди, не члены КПСС, это любые люди, просто Целков говорит: «Я ненавижу эту толпу! Ненавижу ее любую: в магазине, где угодно». Это есть у Рабина, например, это есть у очень многих — неприязнь к коллективности, потому что культура этих годов пропитана текстами начала века, например, «Бунт масс» Ортеги-и-Гассета тогда читали. Это ощущение, что социальность есть зло в любой форме. «Красная» серия картин, сделанная в постсоветское время, как раз это и демонстрирует. Пространство, где мы находимся, картина волей-неволей обнаруживает в себе, потому что она висит здесь, в выставочном зале, находится в нашем пространстве, но есть некое второе пространство, которое она демонстрирует, куда она предлагает пройти, и она все время подчеркивает, что войти туда непросто, что увидеть «Джоконду», например, непросто: все эти люди реально мешают, надо прорваться — это движение здесь очень наглядно выражено, потому что придется привстать на цыпочки, чтобы увидеть этот взгляд. Ну и в более спокойной форме это в других вещах тоже — выход за социальное в другой мир.
Булатов не рисует формы, а рисует свет.
Итак, есть два пространства — социальное и второе, какое-то «океаническое», природное, другой мир; есть эти два мира и труба как некое сообщение между ними. Сначала у него были эти два мира противопоставлены, в какой-то момент Булатов вспоминает про эту трубу. У него появляется фигура идущего человека, у него всегда есть путник, человек движущийся; как правило, он движется от нас, мы как бы идем за ним, и он нас в другое пространство ведет. Путник, который прошел по дорожке и уходит в эту бесконечность, — это, по-моему, одна из выдающихся его картин («Туман». — Ред.), это движение по какой-то шатко сложенной, ощутимо знакомой [конструкции]… все мы знаем эти мостки. Мостки — цитата из русской живописи, Поленов писал мостки. Это скрипучее состояние неуверенности: можно упасть, провалиться, и вы уходите-уходите-уходите в какую-то бесконечную светящуюся даль. Эта даль становится у него не голубой, а светлой, белой, но это не белое Малевича и не белое, характерное для постмалевичевской русской культуры, которая очень активно стала развивать белое. Это не белизна абстрактного пространства: есть какое-то вне земли находящееся белое, абстракция, куда устремлен человек или душа его. Нет, у Булатова это не белый цвет, а свет. Для него очень важно выразить этот момент, что в глубине картины находится не просто иное пространство — там находится светящееся пространство. В картине есть два света: один свет идет отсюда, из зрительного зала, и освещает вот эти мостки — лампа или солнце, и, казалось бы, если здесь он есть, то там должна быть темнота. Но там темноты нет, там есть другой свет, идущий из той глубины. И каждый предмет написан таким образом, что он освещен с двух сторон, поэтому эти предметы совершенно не натуралистические, какие-то воздушные, такие тающие тени. Булатов не рисует формы, а рисует свет. Идущий свет — вот что для него важно, он дает подсветку ветвям, и они таким образом зажигаются. И он пишет эту подсветку, а не ветви. Надо постараться понять, что это такой дар у художника: он видит не предметы, а свет и его преломление. Булатов пользовался фотографией, но только на самой ранней стадии, он фотографировал облака, но это был самый исходный рабочий материал. В принципе, он считает, что фотография не помогает, она слишком предметно-конкретна, она натуралистична, в ней этой пространственности и свечения нет. Особый дар этого человека — видеть преломление света, двух светов — совсем сложно.
Его «Путник» — это путник, который соединяет два пространства: этого мира и находящегося в глубине другого. Картина, с путником или без, есть такая дорога отсюда туда, инструмент перемещения, и поскольку его картины не обладают взвинченной энергетикой мазка, не хватают вас какими-то эмоциями, то Булатов использует прием этого засасывающего центра, такого завораживающего. Вспомните, когда вы едете на машине, насколько вас захватывает наблюдение дороги: это здесь есть — продвижение к этой глубине. Картина дает вам возможность почувствовать, что там есть другая реальность, за этой реальностью есть другая, вот, собственно, и все. Какая — он не говорит, но какая-то есть. Это уже немало — дать почувствовать это визуально, не рассказать: здесь визуальное, а там метафизическое, там у нас квадраты и треугольники летают, а там у нас люди ходят, как у Малевича; такой иллюстрации нет. Хотя сама идея трубы связана (для меня, во всяком случае) с готическим восприятием, коммуникацией с божественным. Во-первых, божественное в готике воспринимается как свет — Бог есть свет прежде всего, а во-вторых, готическая архитектура давала эти дорожки света. Зайдите в собор Сен-Дени под Парижем — первый готический собор, где похоронены французские короли, с огромными окнами. Сейчас это не очень понятно, потому что там чисто, вымыто, но раньше пыль стояла столбом, даже лошади там были, собаки… И через эту пыль сверху шли такие световые, светящиеся колодцы. Это ощущение восхождения по свету было подхвачено потом из архитектуры, наверное, многими художниками, есть такая известная картина Босха, изображающая световую трубу, там у него наверху разные ангелочки, а к ним поднимаются души. Вообще концепция коммуникативной световой трубы давно существует в истории искусства. В отличие от готической и барочной (в барокко она была спиралевидная), у Булатова эта труба именно не вверх, а внутрь.
Подойдите поближе (к картине «Хотелось засветло, ну, не успелось». — Ред.), и вы почувствуете просто рев этой трубы, какое-то ощущение совершенно грандиозное. Вы почувствуете, насколько вся эта живопись вибрирует — вплоть до того, что можно куда-то туда проскочить. Для того чтобы создать такой поглощающий эффект, он помимо масляной краски использует карандаш и уголь — это сложная картина и графическое произведение, которое нельзя трогать, а то все начнет осыпаться. Фиксировать уголь и карандаш нельзя, потому что визуальное и даже физиологическое ощущение пропадет. Перемещение — это главная проблема творчества Булатова. Поэтому первоначальная концепция картины как противопоставления красного и голубого, красной плоскости и голубого пространства, в позднем постсоветском творчестве Булатова меняется на картину черно-белую. Черное наступающего мрака и белое света какой-то другой жизни. Все это слова, где-то некрасивые, и лучше бы их не произносить, потому что эти вещи надо видеть, и как раз огромное достоинство этого художника, великий его дар, заключается в том, что любое искусство, которое метафизически нагружено, вещает нам о каких-то иных мирах, в том числе и иконопись. Иконы очень часто декларативно метафизичны: вы смотрите на них и ничего не видите там, это просто какие-то предметы, которые нагружены смыслами — они, может быть, заявлены, но не считываются. И вот как раз у Булатова это ощущение инобытия выражено визуально, не словами, его можно почувствовать, и в этом смысле он по-настоящему метафизический художник. И чем дальше он развивается, тем деликатнее этой темы касается. Ты не то чтобы стоишь перед проблемой: вот изображен Бог, а ты в него не веришь — он говорит: не хочешь верить — ну, для тебя это тогда просто занавеска.
Наверное, две самые выдающиеся работы его позднего творчества — «Занавеска» и «Дверь». Занавеска внутри мастерской, здесь присутствуют все элементы: есть совершенно очевидный свет с той стороны, преграда, которая проблематизирована здесь не красной плоскостью, а этой занавеской, закрытой какими-то клипсами, — и что? Ну, занавеска, ну, окно — и все. Булатов всегда дает человеку-агностику, человеку неверующему, возможность уйти, не будучи посрамленным. Кто-то видит только занавеску: подумаешь, зато красиво. А кто-то видит еще что-то другое, но что — не произнесено. То же самое и здесь, в этой вещи («Дверь». — Ред.). Тут, мне кажется, он пошел еще дальше, потому что здесь («Занавеска». — Ред.) изысканная живопись занавески, безусловно, можно оправдать эту работу, поскольку написано бесподобно. Но эта вещь («Дверь». — Ред.) — вообще как увеличенный комикс. В комиксах любят такие контрастные штуки: персонажи, что-то происходит за дверью. Просто черное пространство и ощущение: там, за дверью, что-то есть. Эта лапидарность, эта простота высказывания и одновременно четкость — это свидетельство великого художника. Так просто может говорить человек, который прошел огромный путь творчества и обладает потрясающим талантом. Не живописца, а мыслителя, вернее, человека, чувствующего мир, но живущего именно визуальными переживаниями.
COLTA.RU благодарит МВО «Манеж» за помощь в организации экскурсии.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Современная музыка
Современная музыкаГородские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы
25 ноября 20211541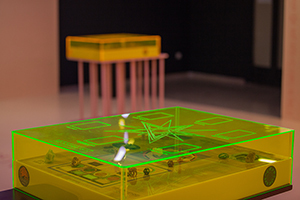 Искусство
Искусство Современная музыка
Современная музыкаДружба двух столиц на совместном треке московских альт-рокеров и петербургского хип-хоп-дуэта
24 ноября 20211849 Общество
ОбществоЮрист Правозащитного центра «Мемориал»* рассказала Эвелине Руденко о своей работе и о людях, которые пострадают от его потенциальной ликвидации
24 ноября 2021260 Литература
Литература Colta Specials
Colta Specials Общество
ОбществоГлеб Павловский об идеях Арсения Рогинского и о том, что за угрозой «Мемориалу»* стоит не политика, а стратегия военного типа
22 ноября 2021182 Общество
ОбществоИсторик Ирина Щербакова рассказывает о своих старых аудиозаписях женщин, переживших ГУЛАГ, — они хранятся сейчас в архиве «Мемориала»*. Вы можете послушать фрагменты одной из них: говорит подруга Евгении Гинзбург — Паулина Мясникова
22 ноября 2021329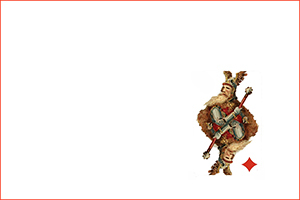 Молодая Россия
Молодая Россия«Иван Ильич подошел к мечети имени Рамзана Ахматовича Кадырова и горько взглянул на ее нежные белокаменные стены». Рассказ Сергея Мирошкина
22 ноября 20211559 Colta Specials
Colta SpecialsОлег Радзинский о новом фильме, снятом автором «Москвы» и «Мишени», режиссером Александром Зельдовичем
22 ноября 2021195 Искусство
Искусство She is an expert
She is an expertЛариса Малышева вспоминает, как в 1970-х монументальные объекты стали световыми — и как она их проектировала
19 ноября 2021258