 Современная музыка
Современная музыкаDvanov. «Гиперпустырь»
Городские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы
25 ноября 20211549 © Colta.ru
© Colta.ru— Что это был изначально за проект и как он задумывался?
— Эту работу спровоцировало появление этой весной закона о запрете пропаганды гомосексуализма в Санкт-Петербурге и Архангельске (в Архангельске закон был принят еще осенью 2011 года. — Ред.). Меня это взволновало, и я решил сделать такой проект. Мы организовали встречу с ЛГБТ-активистами и симпатизантами и сняли их на видео: они стояли статично, как такой видеопикет.
— То есть вы все-таки имитировали акцию или пикет?
— Какие-то аллюзии на это были. В результате посетитель выставки, попадая в луч проектора, отбрасывает тень, и она сливается с тенями активистов, которые проецируются на экран. Название работы — «Пропаганда гомосексуализма». Хотелось сделать ее не абстрактной, а политической.
— Как эта работа соотносится с твоим старым проектом «Тени» ?
— Я ее переснял. Это в принципе другая работа, хотя формально она выглядит так же. Я ее переиграл в другую сторону.
— Но организаторы знали, что будет такая работа, они были осведомлены о ее содержании?
— Да, они были осведомлены. Куратор выставки Екатерина Иноземцева знала о моей работе еще 28 августа, есть наша переписка (выставка открылась 5 сентября. — Ред.). Единственное, они просили меня, чтобы в ней не было никаких порнографических сцен, обнаженных тел и пр., но ничего такого я делать и не собирался. А потом, на открытии, я просто увидел другую этикетку, другое название.
— Тебе это как-то объяснили?
— Да, я подошел к Кате [Иноземцевой], к Ольге Свибловой, спросил, в чем дело. Мне сказали: только ничего не говори, скандал не устраивай, завтра мы все заменим. Объяснили, что якобы это сделано только на время открытия — чтобы не привлекать внимания.
— И как, поменяли обратно?
— Нет, не поменяли и в понедельник сказали уже окончательно, что менять не будут, сославшись на закон, который, по их словам, выйдет в Москве.
— На какой — на федеральный законопроект, который был внесен в Думу на рассмотрение?
— Свиблова просто сказала, что есть некие абстрактные люди, которые могут плохо к этому отнестись, некие силы в России, с которыми она не хотела бы сталкиваться.
Я подходил к куратору, она сказала, что сделала все что могла, но Свиблова настояла на замене названия. Можно было бы вообще снять работу с выставки, но я подумал, что не буду это делать. Я тогда почувствовал такое бессилие… Моя работа потеряла всякий смысл. Я специально ее продумывал как завершенное высказывание, не абстрактное, а актуальное, про сегодняшний день, про закон, который уже действует в Петербурге, Новосибирске, Архангельске. А осталась просто работа без названия с абстрактным описанием — и музей говорит, что не будет менять ничего, все и так хорошо. Это цензура.
— А нельзя ли было спрогнозировать такую ситуацию заранее? Это все-таки музей, который существует при господдержке, — а тема довольно острая.
— Меня просили не включать никаких откровенных сцен, говорили, что просмотрят все материалы, говорили, что боятся провокаций, что я повторяю ошибки своего отца. Но никаких специальных провокаций в моей работе не было. Я считаю, что то, что произошло, — это немного подло.
— Как зародилась сама идея этой работы? Это часть какого-то более крупного проекта, в котором ты реагируешь на текущую ситуацию? Почему ты, художник, счел необходимым выступить с гражданской акцией?
— Подумал, что это тема, которую нужно поднимать. Мне вообще кажется, что ЛГБТ-движение сейчас является частью контркультурного авангарда. Это один из наиболее радикальных фронтов протестного спектра, и принятие закона о запрете «пропаганды гомосексуализма» — яркое тому подтверждение. Власть боится, замалчивает гей-активизм как может. Эта борьба, которая ведется изнутри общества, переворачивает представление о желании, телесности, субъективности человека, противится навязываемой властью патриархальной схеме отношений. Желание и протест в такой борьбе выступают как двигатель реального и материалистического взгляда, демистифицируя и ставя под вопрос важнейшие основы существующего режима и эксплуатации в современном обществе.
Моя работа задумывалась тогда, когда этот закон только выходил — и появилось опасение, что и в Москве тоже будет что-то подобное. До этого я хотел показать версию этой работы на другой выставке, проходившей в рамках Киевской биеннале. Там она не была показана, но по другим причинам, скорее техническим.
Я думал сделать политическое высказывание через определенные культурные формы: когда человек приходит в музей, включается с ним в некоторые отношения. И это было бы вовлечением в реальность, которое начиналось бы с названия, а потом зритель неожиданно оказывался бы включенным в эту работу.
— Получается, что критические проекты в музее реализовывать становится все сложнее, появляются конкретные темы, которые табуируются?
— Да, это заметно, и это делается втихую, без ведома художника. Я ведь был уверен в возможности диалога с музеем. Провокация, если она и существовала, здесь была окультуренной и неагрессивной, все должно было работать на осмысление проблемы, на включение рефлексии.
— До этого ты делал бумажные наклейки-граффити, которые появлялись на улицах и внедрялись туда этаким «партизанским» способом, и при этом они также отсылали к теме протеста. Сейчас ты попытался вынести это в музейное пространство — и нашла коса на камень. Что, нет другого выхода у протестного искусства — только назад в андерграунд?
— Нет, я по-прежнему вижу возможность диалога. Правда, теперь буду с большим подозрением относиться к музейщикам.
— Я не помню за последние годы работ, появлявшихся в публичном пространстве, которые хоть как-то реагировали бы на проблемы ЛГБТ-сообщества. Может быть, есть какие-то еще проекты у тебя или у других художников?
— У меня были еще проекты на эту тему, я показывал их в других галереях, не в России. Но после принятия закона я решил, что из правовой сферы эту проблему нужно перенести в культурную и как-то это осмыслить, включить в пространство музея, чтобы прийти в себя после этого общественного потрясения.
— В одном интервью Елена Баканова сказала, что сейчас, в нынешней политической ситуации, вообще непонятно, какие проекты в принципе могут быть услышаны. Твоя работа и выставка были реакцией на подобную ситуацию?
— Я пытался показать разные работы, продемонстрировать разнообразие приемов в искусстве. Все это были легкие, внятные ходы, которые легко считываются. И эту мою работу также считать было очень легко, она встраивалась в общую драматургию. Я был уверен, что зритель не будет шокирован — ведь проблему с законом о пропаганде гомосексуализма можно подать и в более агрессивной форме. Мне хотелось, наоборот, разминировать эту бредовую ситуацию общественной фрустрации.
Меня интересует ЛГБТ-движение как одно из самых пограничных, самых острых сейчас среди общественных движений. Но при этом я считаю, что правовые темы — это не совсем предмет искусства и не вопрос художника. Существует подход к политическому через художественное, к социальному через визуальное, через разные культурные коды с помощью языка визуального искусства.
— Законодательная атака в последнее время была очень мощной, одиозные законы принимались очень быстро. Получается, это была попытка социальной терапии с твоей стороны?
— Да, через такие культурные и художественные ходы. Эта работа выводила бы тебя не только на правовой, но и на рефлексивный уровень.
— Может быть, в этой ситуации были бы более эффективны именно гражданская акция, выход на митинг, открытые письма, обращения в суд?
— Художник находится между этими областями — правовой, социальной, формальной и др. Но музей — место, где свои определенные правила, не такие, какие существуют на улице, в метро и др. Человек здесь включается в культурный диалог, рефлексию, это место, где возможна более бесконфликтная дискуссия.
— А сам ты не опасался какой-то провокации со стороны «православных дружин», конфликта с ними?
— Нет, такого я не опасался. Такие элементы существуют везде, и в других странах тоже — но музейное пространство, повторюсь, имеет свою специфику. Уровень дискуссии, которая выносится за пределы музея, совершенно другой.
— Есть ли какие-то документальные подтверждения того, что организаторы были осведомлены обо всем заранее?
— Да, есть переписка. Все готовилось довольно сумбурно, но куратор был в курсе. Однако была наша переписка еще до открытия. Ольга говорит, что есть еще закон, по которому запрещена пропаганда, именно пропаганда, гомосексуализма, и что этот закон вышел 8-го числа. Сказала, что сама поддерживает гей-движение, но работа останется как есть и мы поговорим, когда она приедет. Она долго говорила мне, что это плохая работа и табличка выглядит глупо. Она сказала, что это говорит о моем непрофессионализме, что нельзя во время монтажа сообщать о смене названия работы… По-моему, там еще куратор передергивает в свою пользу.
Мы связались с рядом ЛГБТ-организаций, лично со всеми знакомились и приглашали к участию именно в работе над инсталляцией «Пропаганда гомосексуализма», рассказывали им идею. Всех заинтересовали тонкость работы и отсутствие грубых провокаций — никому из активистов не хотелось, чтобы их подставляли. Они участвовали в съемке, работали до поздней ночи. Мы позвали всех на открытие, сказали, что хотим поддержать социальное движение и в рамках музея сделать такой видеопикет на стенах музея. И на открытии активисты просто не обнаружили себя в проекте. Ни я, ни Давид не ходили и не проверяли каждую подпись, потому что это была работа музейщиков — сделать этикетки. И потом Давиду обещали, что все поменяют. Мы не хотели скандала, Давид говорил, что его задача — просто вернуть название назад. Но такое ощущение, что директор музея на интуитивном уровне чувствует, что закон уже принят. И то, как они ведут себя, доказывает, что закон неформально уже действует. Мы консультировались с юристом — на федеральном уровне, на уровне Москвы такого запрета сейчас нет.
Название работы никто не менял. Работа была сделана в 2004 году и показана в галерее XL, называлась «Тени». Она называлась так и в текстах, это проговаривала куратор Екатерина Иноземцева, общавшаяся с Давидом Тер-Оганьяном по поводу выставки, решение о которой было принято примерно месяца за четыре-пять до ее открытия. Потом Тер-Оганьян уехал в Вену, потом он отдыхал после Вены, потом они наконец начали работать над выставкой с моим куратором. Они пришли к полному согласию по составу работ. Выставка обсуждалась в присутствии Владимира Дубосарского — художника старшего поколения, который знает Давида с детства. Они обсуждали эту работу в Вене. Она связана с движением персонажей в музейном пространстве, и Давид сказал, что ему нужно доснять, довести ее до ума.
Я вообще ничего не знала [ни о каких ЛГБТ-активистах]. Никакой речи ни о другом названии, ни о другом смысле не было. О том, что у работы сменилось название, я узнала на сцене, выступая во время открытия. Давид пришел на выставку. Мы с ним отсмотрели работы — я уже не говорю о том, что он не пришел туда в тот момент, когда моя команда должна была технически доводить до конца работы, не очень доведенные до конца. У Брускина (выставка Гриши Брускина несколькими днями раньше открылась в Мультимедиа-арт-музее. — Ред.) все доведено до конца, а за наших художников молодого поколения, как правило, приходится делать половину технической работы.
Приходит Давид, мы обсуждаем выставку, все нормально. После этого проходит часа полтора, наступает открытие. Мы стоим на сцене, Давид рядом со мной, я ему предоставляю слово, он его искренне берет, что-то говорит, начинает петь рэп, я ему поправляю микрофон, чтобы этот рэп было лучше слышно, и на сцене он мне говорит: почему эта работа теперь называется «Без названия», а не «Пропаганда гомосексуализма»? Какая «Пропаганда гомосексуализма», о чем речь? Мой куратор мне объясняет эту работу как работу «Тени», которую я знаю, для меня «Пропаганда гомосексуализма» — полное открытие. Предлагаю ему поговорить после открытия, может быть, я чего-то не понимаю.
После этого Давид, конечно, исчезает, потому что хочет спать. Дальше начинается эта история в прессе, на Facebook. Я звоню Давиду, мне отвечают, что он сейчас не может разговаривать. Я в это время делаю монтаж выставки в Дюссельдорфе, нахожусь в тоннеле, под землей, в новом помещении Кунстхалле. Я говорю: Давид, когда вам пришла в голову идея, что эта работа так называется? Он говорит: я в августе так решил. Я говорю: понимаете, в июле выставка была поставлена в план, у нее есть куратор, мы обсудили. Я задаю вопрос Кате, в чем дело. Катя о том, что Давид решил назвать ее «Пропаганда гомосексуализма», узнала 28 августа — причем она даже не знала, что работа меняет смысл, — из Facebook, потому что кто-то из ее друзей сообщил, что он едет на досъемку к Тер-Оганьяну для выставки в МАMМ. Мне нужно заниматься развеской огромной, серьезной выставки в очень сложном пространстве, звоню, как прокурор, Дубосарскому. Говорю: Володя, что случилось? Он говорит: я помню наш тот разговор. Никакой речи о том, что эта работа Давида Тер-Оганьяна, который хочет ее немножечко доснять — и мы ему даем свою технику для досъемки, — пойдет как «Пропаганда гомосексуализма», не было. Я проверила телефоны и мейлы Кати Иноземцевой, потому что мне говорили, что куратор была вне доступа. Но она имеет право быть вне доступа, потому что она уехала в отпуск, решив все по выставке. К ней ни разу не обращался Давид Тер-Оганьян. Ко мне ни разу не обращался!
И я ему говорю сейчас: объясни мне, почему старая работа, которую ты доснял и которая ничего не имеет общего с гомосексуализмом, должна называться «Пропаганда гомосексуализма», чем это меняет ее смысл? Почему, не сообщив ни музею, ни кураторам, ты принял такое решение? Я думаю, что некоторым художникам сегодня в России после последних всех явлений ничего, кроме скандала, не нужно для популяризации своего искусства. А у него скандал не получается, у него хорошая выставка.
Я говорю: объясни мне, что меняет этикетка «Пропаганда гомосексуализма» в работе, которая идентична предыдущей и которая уже была. Он говорит: это мой художественный жест, я на него имею право. Я тогда прошу объяснить мне смысл этого жеста.
Есть еще и законы Российской Федерации, по которым гомосексуализм не преследуется. Были времена, когда было иначе. Наш музей выставлял художников самых разных ориентаций — голубой, розовой, зеленой. И когда я выставляю художника, я выставляю его не ради его ориентации, потому что сегодня, к счастью, даже в нашей стране, где были другие времена, выбор одной формы личной жизни или другой не преследуется по закону.
Речь идет о пропаганде гомосексуализма. Я говорю: Давид, ты что, хочешь пропаганды гомосексуализма? Личная жизнь — это право каждого, пропаганда — это другое дело. Чем эта работа отличается от работы с тенями 2004 года? Почему ты возводишь напраслину и я вынуждена обращаться к Дубосарскому, чтобы доказать слова моего куратора? Никогда это не было анонсировано, ни куратор, ни директор не были поставлены в известность.
Откуда взялась этикетка к новой работе? Если ты мне хотя бы по смыслу докажешь, я буду думать, ставить ее или нет. Он говорит: я не знаю, что я хочу сказать.
Художник подошел к куратору за день до открытия и задал вопрос, почему работа поменяла смысл и название. И куратор предупредила Давида, что она не согласна с этой этикеткой к старой работе.
Более того, у выставки была концепция, которую музей разрабатывал с художником, художник сам ее выдвигал, художник был согласен. Он до сих пор мне не может объяснить, почему работа должна называться «Пропаганда гомосексуализма» и что он этим хочет сказать. Если художник в последний момент решил, что реальные события, происшедшие в стране, меняют полностью его понимание выставки, он, наверное, ставит об этом в известность и куратора, и директора. И он, наверное, не открывает свою выставку до тех пор, пока не принято решение, которое кажется ему логичным.
Оказывается, что если у нас нет скандала, то современное искусство сегодня не живет.
Я полдня говорила вместо того, чтобы работать, и уехала, не довесив выставку. Мы договорились, что он думает и мы общаемся. Если он сумеет аргументировать свою работу, мы найдем возможность, как ее выставить. Это чистая провокация людей, которые хотят славы путем скандала.
Прошлый год все художественное сообщество не работало, потому что оно обсуждало группу «Война». Сейчас мы не работаем и не отдыхаем, потому что, каждый по-своему, пытаемся разрешить ситуацию с Pussy Riot.
Давид Тер-Оганьян — хороший художник. Когда он сделал свои бомбы, он сделал хорошие работы, они были провокационные, ставили проблему. Если он хочет повторить работу своего отца (имеется в виду серия Авдея Тер-Оганьяна «Радикальный абстракционизм». — Ред.) — да, она мне очень нравится, эта работа поднимает вопросы реальности и ее интерпретации, это серьезная философская проблема. Но я не буду повторять концептуальный ход отца, я скорее выставлю работы отца, потому что в них был поднят этот ход.
Я не хочу делать то, что не осмысленно. Я думаю о каждом движении — оно чревато каким-то будущим по отношению ко многим людям. Я не думаю, что пропаганда гомосексуализма — это цель, которой я готова отдать свою жизнь. Вот если будет то, что ущемляет права других людей, я как гражданин выйду и выскажу свою позицию, как сказала на «Эхе Москвы», что я не понимаю критериев этого закона. А шум вокруг пропаганды гомосексуализма может привести к тому, что он опять окажется за чертой дозволенного или не дозволенного законом.
Я против скандала — скандала в жизни, в рабочем коллективе, скандала политического, художественного. Иногда бывает, что конфликт и скандал срабатывают, но это бывает очень нечасто. Это не может быть рецептом, по которому пекутся пироги. И не может сын повторить работу отца в сложном и гораздо более сильном исполнении. Это не рецепт, искусство не печется по рецепту. Оно интересно там, где открывает что-то новое.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Современная музыка
Современная музыкаГородские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы
25 ноября 20211549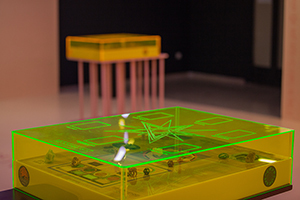 Искусство
Искусство Современная музыка
Современная музыкаДружба двух столиц на совместном треке московских альт-рокеров и петербургского хип-хоп-дуэта
24 ноября 20211860 Общество
ОбществоЮрист Правозащитного центра «Мемориал»* рассказала Эвелине Руденко о своей работе и о людях, которые пострадают от его потенциальной ликвидации
24 ноября 2021262 Литература
Литература Colta Specials
Colta Specials Общество
ОбществоГлеб Павловский об идеях Арсения Рогинского и о том, что за угрозой «Мемориалу»* стоит не политика, а стратегия военного типа
22 ноября 2021183 Общество
ОбществоИсторик Ирина Щербакова рассказывает о своих старых аудиозаписях женщин, переживших ГУЛАГ, — они хранятся сейчас в архиве «Мемориала»*. Вы можете послушать фрагменты одной из них: говорит подруга Евгении Гинзбург — Паулина Мясникова
22 ноября 2021330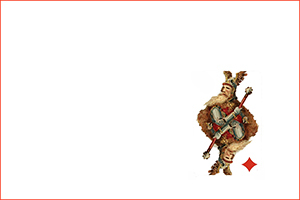 Молодая Россия
Молодая Россия«Иван Ильич подошел к мечети имени Рамзана Ахматовича Кадырова и горько взглянул на ее нежные белокаменные стены». Рассказ Сергея Мирошкина
22 ноября 20211568 Colta Specials
Colta SpecialsОлег Радзинский о новом фильме, снятом автором «Москвы» и «Мишени», режиссером Александром Зельдовичем
22 ноября 2021195 Искусство
Искусство She is an expert
She is an expertЛариса Малышева вспоминает, как в 1970-х монументальные объекты стали световыми — и как она их проектировала
19 ноября 2021259