Дружба двух великих марксистов, не ставших революционерами, напоминает платоновский диалог: Брехт как новый Сократ, язвительный и прямодушный, и немного капризный софист Беньямин. Беньямин, по собственному признанию, ждал от встречи с Брехтом «вдохновения, но не укрепления сил» (с. 102) вдалеке от столиц, полисов как мегаполисов. Именно такой географии мучительного вдохновения посвящена внушительная книга, вышедшая по-немецки в 2004 г.
Легко можно представить собеседников склонившимися друг перед другом: Брехт чтит в Беньямине критика, а Беньямин в Брехте — поэта. Критик чаще всего не успевает за событием, и Беньямина в окружении Брехта чаще всего обвиняли в неумении вести дела, в неспособности быть организатором, в увлечении наукой в ущерб общественной деятельности. За что бы Беньямин ни взялся, все идет не так, как хотел он и как хотело окружение, и кажется, что его не забудут никогда, потому что, как любой софист, он знает цену всем этим индивидуальным и коллективным желаниям. Желание всегда перегорает в своем же томлении по несбывшемуся, даже если кажется реалистическим, и выигрывает тот, кто умел взяться за дело, как подсказал ему даймон, как подсказала ему совесть. Взяться с того конца, где скрытое ценнее явленного, где сбывшееся ценнее бывающего.
Поэт воплощает несбывшееся. Брехт стал для Беньямина безусловным кумиром, за которым он был готов следовать. Брехт — еще больший практик, чем рабочий, еще больший «автор как производитель», чем советские поэты, еще больший любитель жизни, чем революционеры, еще больший стратег и тактик, чем академические люди. Это действительно Сократ, изнутри подрывающий привычные институции. Будучи писателем и драматургом, Брехт показывает, как может состояться мысль, как может состояться выступление, как может состояться история. Такую состоятельность не покажет ни рабочий, ни профессор, ни политик или дипломат, даже если он из бывших рабочих.
 © Grundrisse, 2017
© Grundrisse, 2017Исследуемый в книге платоновский диалог, длившийся много лет, — особый. Это не диалог посреди полиса, а диалог на отдыхе, в перерыве, в спокойной обстановке, которая только и позволяет разобраться, кто что может организовать без посторонней помощи. Перед нами не такая уж редкая в культуре коллизия, когда два друга не могут додумать мысль вне собеседования именно потому, что дальше им нужно будет уже самостоятельно отстоять свои проекты перед всеми. Лучше подстраховаться в спокойной обстановке.
Только стратегии этого отстаивания были разные: одно дело — Брехт, окруженный единомышленниками, деятелями искусств и любовницами, витальный и решительный. Другое — Беньямин, робкий, постоянно памятующий, что и академическая, и писательская карьеры будут его неразделенной любовью. Брехту всегда хватает одной задачи, а Беньямин одновременно исследует дух эпохи и испытывает на себе его жгучую уникальность.
Беньямин пытался много раз пропагандировать Брехта. Но «ясная и активная позиция Беньямина не стала достоянием общественности того времени» (с. 225) — редакции журналов раздражались и на демократизм Брехта, и на высокую декларативность Беньямина, видели угрозу институциям самого письма.
Брехт, простоватый в своем историческом материализме, выступает в новом платоновском диалоге как разум, высящийся над телом тогдашних партийных социальных политик. Брехт может присягать коммунизму сколько угодно, но как только он разумно решает вопрос, он уже свободен от присяги, он уже делает то, что умеет. Беньямин, диссидент для слишком многих — и для авангардистов, и для берлинских прогрессистов, и для адептов мировой революции, и для строителей Палестины, — был совестью этого сообщества. Его обвиняли в мистической таинственности, но это была совестливость, потаенность задач истории, без которой сама история обратится только в испытание одного насилия более тяжким насилием.
Друзья вели споры о многом, начиная с сексуальности. Для Беньямина буржуазное общество окончательно разрушило фаллический аристократизм сексуальности. А для Брехта в буржуазном обществе, напротив, соблазн окончательно перестает быть игрой и делается насилием: в мире товарных «моделей» капризная привлекательность окончательно заменила эрос. В этих обличительных пассажах Платон разыгран как по нотам. Брехт ведет себя как Сократ, капризничающий с Алкивиадом, Беньямин — как Алкивиад, любящий доказывать право сильного как естественное право, не считающееся с высящимися авторитетами лучших людей прошлого.
Брехт обрывает Беньямина, как Перикл обрывал Алкивиада или Сократ обрывал Горгия, говоря, что такая диспозиция политической власти речи, вроде бы естественное «первое слово дороже второго», — это просто некоторая уловка, доступная многократной воспроизводимости. И потому капризный эрос разумнее традиционного: этот сын богатства и бедности у Платона — уже не космический принцип, а кокетство самой истории.
Так, критикуя буржуазное насилие, друзья на досуге познавали себя. Переполненные желаниями, они доверяли друг другу личные тайны, при этом сохраняя почтительную дистанцию. На этом пиру не нужно было сгущать эротическую атмосферу, потому что мы не в полисе, но мысленно нагнетать сплоченность масс.
Беньямин опять выступал как софист, для которого массы уже пережили опыт, обративший их к истории. Нужно только журналами и спектаклями посильнее закрепить уже взятый курс. А Брехт, как Сократ, понимает, что разум дается только особо сплоченным массам. Соревноваться с капиталистами — это как соревноваться полису с богами. Тогда только полис, выдержавший все испытания, попавший в самую точку собственной судьбы, и может войти уже в новый коммунистический мир.
Значительная часть сюжета книги — попытка создания друзьями журнала «Кризис и критика». Кризис для них — не только экономический или психологический упадок, но начальное суждение об истории, «докса», которую нужно наделить силой критики, дав возможность выступить самым разным людям.
Программа журнала сразу была обречена на провал: надо ведь тогда дать голос и мертвым (и первой в портфеле лежала статья давно умершего Плеханова в анонимном немецком переводе). Такой самиздат самиздата остался курьезом межвоенного времени, не став общественным фактом.
Но этим дружба не ограничивалась. Друзья пытались написать детектив, основанный на страхе перед доносом. Такой детектив должен был явно очертить для них и для будущих союзников по журналу правила социального взаимодействия, изложив нравственные запреты как сюжетные подробности, а не как традиционные табу.
Они же любили настольные игры. Брехт с энтузиазмом покупал все новые игры, а Беньямин с удовольствием и одновременно скукой находил в безмятежности шахматной игры положенный ему редкий выигрыш. Для Брехта шахматы и другие игры были возможностью материальных приобретений: вещи служат залогами удовольствий и выигрышей. А для Беньямина игры были областью уже изученных ходов друг друга, и ему было важно просто нащупать момент, где игра объединяет, а не разъединяет силы соперников.
Так подробности из жизни, равно как и многое другое, как видение Хайдеггера главным оппонентом будущего журнала или совместная работа по снижению градуса подозрительности среди антифашистов, служат лучшим введением и в их творчество. Оба в конце концов были одиноки в своей эпохе: никто не понимал, почему Брехт берется то за повести, то за пьесы, никто не понимал и мистических созерцаний Беньямина.
Но на самом деле за этим мерцанием литературного бытия стоял один опыт: опыт верности себе, когда неверны себе правительства. Когда тело политики — это соблазнительное шмиттовское «политическое», тогда верность неполитическому вдохновению политики — это творческое одиночество, но и новый сократический диалог одиноких душ.
Эрдмут Вицисла. Беньямин и Брехт — история дружбы. Пер. с нем. под ред. С. Ромашко. — М.: Grundrisse, 2017. 456 с.
Понравился материал? Помоги сайту!
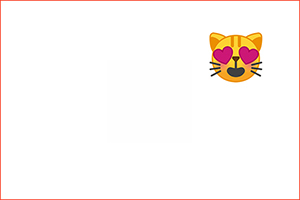 Молодая Россия
Молодая Россия






































