COLTA.RU публикует текст из новой, выходящей в июне книги Александра Тимофеевского. «Книжка-подушка» — второй том из собрания эссе Тимофеевского, издаваемого журналом «Сеанс». Первый — «Весна Средневековья» — вышел в 2016 году.
Я никогда не был тряпичником, сначала из самомнения и гордой убежденности, что картина важнее рамы. С годами картина, как и положено, стала портиться и приходить в негодность, но любви к раме от этого не возникло. Была, впрочем, в юности одна вещь, о которой я мечтал, всего одна, но была. Это никакие не джинсы, которые задним числом нам всем, расцветшим при позднем Брежневе, записали в глупую коллективную мечту, и не сапоги, ходившие с джинсами нога об ногу, хотя как раз сапоги, и дивные, столетней давности, шнурованные до колен, я обнаружил на вещевом рынке в центре Москвы, где торговали разным старьем, нарыл и глазам не поверил, и немедленно купил, и потом не вылезал из них лет пять, а то и семь. Вплоть до колен текли ботинки — ботинки с Тишинки, абсолютно уникальные, музейные, тончайшей выделки, век своей жизни, похоже, они провели в прихожей, стояли в чулане, лежали на антресолях и почти никуда не выходили, потом, попав на рынок, уценились с возрастом и стоили копейки, восемь с половиной, помнится, рублей, это была бросовая, доступная всем роскошь, всем, кто способен ею восхититься, такое сложно было обрести, но о нем не приходилось мечтать. А мечтал я о пальто Loden, темно-зеленом, шерстяном, раздваивающемся сзади, оно, почти не меняясь с годами, на весь мир поставляется Австрией уже полтора века, его выпускали еще при империи, с ампирной покрышкой, тогда это шинель с пелериной, или пусть без покрышки, но непременно с кожаными пуговицами, футбольными мячами на крохотном металлическом крючке, сорок лет назад эдакая красота стоила четыреста, по-моему, рублей, что для меня было абсолютно непредставимой цифрой.
Красоту эту я впервые увидел в 17 лет на закрытом просмотре в Москве зимой 1976 года то ли в Союзинформкино, то ли на студии, то ли во ВГИКе, где именно тогда приобщали к искусству загнивающего Запада, я сейчас не помню, но загнивал в тот раз Бунюэль, давали его «Виридиану», зал был маленький, человек на сорок, и один из них, крепкого сложения, но с мягкими чертами, очень правильный, надежный молчел, встав с кресла, когда зажгли свет, сказал, обращаясь к спутнице: «Когда я вас впервые увидел, то сразу понял: все кончится тем, что кузина Виридиана будет играть со мной в карты». Это были только что отзвучавшие последние слова только что завершившегося фильма, вообще-то очень трагического, безысходного, и, произнеся их со спокойной сытой улыбкой, правильный молчел принялся надевать свой темно-зеленый Loden из плотной бархатистой шерсти, свалянной таким образом, что она никогда не промокает, оставаясь предельно мягкой, — самое комфортное и самое надежное в мире пальто, в котором море по колено, дико буржуазное и дико аристократичное пальто тирольских пастухов. В нем он пойдет со своей спутницей домой, и там они сядут за стол под абажуром, таким же мягким, темно-зеленым и защищающим от всех напастей, как пальто Loden, и за окном повалит снег, мокрый, липкий, а они будут пить чай, и играть в карты, и смеяться над всеми дураками, которые играют в карты. Эх.
Второй раз я увидел пальто Loden на Леоне в Ленинграде.
 © «Сеанс»
© «Сеанс»Я туда переехал из Москвы в конце августа 1976 года, летом поступил в какой-то глубоко не интересовавший меня институт исключительно для того, чтобы жить в Питере. А как там не жить? Там Растрелли, Кваренги, Ринальди; и своды, и арки, и тяжелые чугунные, легкие прозрачные решетки, всегда и везде воздух; и все колеблется; и шествию теней не видно конца, и звук их шагов пока слышен. А кто-то не тень вовсе, кто-то здравствует. Еще жива Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина, вдова Юрочки Юркуна, ближайшего друга Кузмина, они всегда ходили втроем. А теперь она ходит одна или не ходит вовсе? «Давайте это проверим, пойдем к Ольге в гости, ее хорошо знает Надя, и Настя может позвонить», — говорит Леон. Он старше меня на 11 лет, ему 29, по моим теперешним и по тогдашним понятиям 75-летней «Нади» он ребенок, но всех называет по первым именам, даже по коротким, и уж точно без отчеств, и в этой фамильярности нет ни бравады, ни хамства, ну, почти нет, скажем аккуратнее, а есть дом, уклад, детская, есть «наш круг». Леон — сын академика или, кажется, членкора, не суть, а суть в том, что членкор этот — ученик академика Орбели, тоже Леона, легендарного Леона Абгаровича, физиолога, родного брата другого Орбели, легендарного Иосифа Абгаровича, директора Эрмитажа, отца легендарного Мити Орбели и мужа совсем легендарной Тоти. Орбели — это полноценный миф новейшего, интеллигентского Ленинграда, последний миф Петербурга, и Леон, в честь Леона Абгаровича названный, в этом мифе с рождения, он в нем свободно, уютно расположился, со знанием дела его обжил и сейчас ведет по нему экскурсию.
— Вот вы уверены, что Иосиф Орбели сатрап, почти как Иосиф Сталин, раз был при нем начальником, многолетним директором Эрмитажа. А вы знаете историю про дворян — в 37-м году, между прочим? Вижу, не знаете. Тогда в Эрмитаже готовили пушкинскую выставку, к столетнему юбилею, и компетентные товарищи пришли принимать ее с вопросом: «Что это у вас, товарищ Орбели, столько дворян работает, несознательных, классово чуждых сотрудников, скрытых врагов советской власти? Почему вы их не увольняете?» И знаете, что Иосиф Абгарович ответил? Не знаете, вижу. А Иосиф Абгарович сказал: «Да помилуйте! Какие они дворяне? Ну, есть несколько человек, знающих свою родословную с XVIII, а двое — с XVII века. Ну разве это дворяне? Вот мы, князья Орбели, мы — дворяне, ведем свое происхождение с XII века, а мать моя — урожденная княжна Аргутинская-Долгорукая. Так что уволить я могу только себя».
И, пересказав анекдот сорокалетней давности, Леон вздыхает с победоносной безысходностью. В героическом жесте Орбели — выгородил людей, защитил и спас их от высылки, а возможно, и смерти, переведя огонь на себя, — он предлагает ценить не героизм, в него еще поди поверь, а жест: эх, как сказал, чистое наслаждение. В мифе Орбели им презентуется презентация: картина может быть и фальшаком, но рама-то несомненна; сюжетов множество, подача — единична. В мире сплошных мнимостей, в городе, где туманы-обманы и все колеблется, всюду мираж, есть только «эх, как сказал» — одна твердыня, за нее и держись.
Вот Митя Орбели — они с Леоном ровесники, дружили с детства — он умер пять лет назад, не дожив до 25. У него был врожденный порок сердца, на груди вырос горб, чудо, что прожил так долго.
— Как жаль, что вы не застали Митю, — говорит Леон. — Вы бы обязательно с ним подружились. Он хоть и занимался биологией, физиологией и разной медициной, но был совсем по части «эх, как сказал». Вы знаете, что он написал пародию на «Поэму без героя»?
Я обожаю «Поэму», я ею брежу, она наконец издана целиком, ну, не целиком, конечно, в «Решке» полно цензурных пропусков, но, по крайней мере, есть все три части, они собраны в книжке, напечатаны на бумаге, это только что произошло, а человек, написавший на «Поэму» пародию, умер уже пять лет назад. Где эта пародия? — покажите!
— Я не знаю, где пародия на «Поэму», — честно признается Леон. — Зато я помню пародию на Северянина и на литфондовский Коктебель одновременно. Вот, послушайте.
И Леон, остановившись посреди Литейного, читает: «В кружевах тамариска, невесомо-усладных, / Под шуршание моря по соленым камням / Парк серебрянолунный, парк литфонднопрохладный / Ароматами юга опьяняет меня. / Запах трав и клозета! Абрикоса и дыни! / Яркоцветность Матисса и ажурность Калло! / Я в полыноклозете! Я в клозетополыни! / Терпко-знойное лето! Ах, зачем ты прошло!»
Парк литфонднопрохладный густо, гротескно пародиен, как клозетополынь, но читающий эти стихи Леон строг и элегантен, он — воплощение дендизма, зелено-бледного и немного фрустрированного, а какой еще носят в Питере? Леону это дается с трудом, он болезненно здоров и удручающе нормален, ни одной перверсии и аномалии, никакой на них надежды. Хорошо отмытый и хорошо упакованный молчел со щеками-почти-эполетами, словно лежащими на плечах, щечки-висячки, говорила о таких моя прабабушка, крупный тридцатилетний бэби, у которого изо рта пахнет высокогорной свежестью и всегда водятся деньги, что в бедной моей питерской юности само по себе было дендизмом.
Уж не помню, кто нас представил, да и был ли мальчик, надобность в представлении отсутствовала — скорее всего, мы зацепились друг за друга глазами в «Сайгоне»: так промеж своих назывался кафетерий на углу Невского и Владимирского, перекресток всех дорог, куда из любой точки города было легко попасть и где было легко пропасть на день, на год, на всю жизнь. «Сайгон» затягивал, засасывал, забирал без остатка, растворяя в бессмысленном топтании, стоянии в правильной очереди к Люсе, варившей маленький тройной, или к Стеле, которая делала аж четверной, да еще и с минимумом воды. Теперь мы понимаем, что Стела продавала банальный эспрессо, который варят везде в мире, а в Италии — на каждом углу, но в Советском Союзе тех лет он нигде не встречался, абсолютно непредставимый и немыслимый. И слова такого никто не знал. Конечно, это была фронда. Несоветский, даже почти антисоветский напиток, многооборотный в своем названии, густо гротескный, как стихи Мити Орбели, ежедневно и по нескольку раз вливаемый в себя, превращал посетителя кафе-стоячки, зашедшего туда с обычной ленинградской улицы, если не в открытого борца с режимом, то, по крайней мере, в несгибаемого внутреннего супостата, в члена ложи, попавшего наконец к своим.
Антисоветское в нашей ложе было обязательным маркером, но далеко не единственным и мало что определяющим. По умолчанию мы все были антисоветскими, а как иначе? — это никогда не выяснялось, все их в гробу видели, что понятно без вопросов.
Более важным маркером было обращение на «вы». Сразу на «ты» при первом знакомстве переходили друг с другом «они»: «Ты комсомолец? — Да! Давай не расставаться никогда». Мы так никогда не делали, мы обязательно расставались, и расставания эти ценили не меньше встреч, это «они» принадлежали народу и партии, всем товарищам без остатка, а у каждого из нас было пространство, доступное только себе, где всегда можно укрыться и где никто не смел никого тревожить. И это, понятное дело, не квартира с видом на парк. Наше общение друг с другом на «вы» было, прежде всего, про пространство укрытия, про privacy, про «я плюс», которое, собственно, и отличает «нас» от «них».
Ну а дальше шли позывные, самая важная в этой жизни вещь. Позывные всегда берутся из книжек, музыки и картинок, состоят из названий, имен и цитат. Модными позывными осенью 1976 года был роман «Возвращение в Брайдсхед». И наша сайгонская публика, ой, не вся, конечно, совсем не вся, а именно наша, поделилась — на Себастьянов и Джулий Флайтов и на Энтони Бланшей. Здесь все определялось физиологией. Хрупкие и ломкие были Джулиями и Себастьянами, ведь раньше всех умрет тот, у кого кроваво-красный рот и на глаза спадающая челка; напористые и нажористые обоего пола выбирали Энтони Бланша с его стремительной словоохотливой экстравагантностью, живучей такой. В этом, как сейчас говорят, формате был Сережа, надо о нем написать, но Леон выступал ярче. И первым закончил выступление: самый живучий оказался самым недолговечным.
Но я забежал вперед. Вернусь к позывным. Прощайте, прелестный друг мой, найдите себе новую возлюбленную, как я нашла нового возлюбленного, не моя в том вина. Главными для нас, и не только в 1976 году, а на несколько десятилетий, стали «Опасные связи» Шодерло де Лакло, обожаемые злодеи маркиза де Мертей и виконт де Вальмон с их пленительно-изощренной речью, созданной по-русски Надеждой Януарьевной Рыковой. «Опасные связи» тут переплелись с великой русской литературой.
 Надежда Януарьевна Рыкова, Ленинград, декабрь 1980 г.© Владимир Шестаков
Надежда Януарьевна Рыкова, Ленинград, декабрь 1980 г.© Владимир ШестаковРыкова была без малого на 60 лет меня старше. Мы познакомились как раз в 1976-м, вскоре после моего переезда в Питер, и близко подружились, и много, очень много общались, почти до самого 1996 года, когда она умерла, — я в то время был обозревателем «Коммерсанта» и сделал для газеты о ней текст: «В советском мире, в котором жили все современники Рыковой, “прямая речь” годилась лишь для писания в стол, чему переводческая школа обязана своим небывалым расцветом. Заведомо подцензурная, сложнейшая иносказательная речь, без единого прямого слова, вся построенная на вынужденной или нарочитой недоговоренности, на изысканных реминисценциях и карикатурных советизмах, на перепадах от грубого, явственного к тонкому, едва ощутимому, на отсылках к отсылкам, стала достоянием ленинградских литераторов — ровесников века. Созданный ими эвфемистический язык, замечательно новый и совершенно русский, был, несмотря ни на что, чуть иностранным — хотя бы по ограниченности своего бытования — и словно предназначенным для переводов. В них он и остался. Рыкова переводила со всех языков, которые полагалось знать образованному человеку, — с французского, итальянского, английского, немецкого: Гюго и Лафонтена, Макиавелли и Монтеня, Ларошфуко и Клейста, “Короля Джона” Шекспира и “Опасные связи” Шодерло де Лакло. Каждый из этих трудов стал классическим, но гениальнее всего получился роман Лакло. Головокружительные словесные пируэты в речах маркизы де Мертей и виконта де Вальмона, президентши де Турвель или госпожи де Розмонд с их единством назидательности и иронии, аристократического и простонародного были обычной практикой того круга, к которому принадлежала Рыкова. Шутки ее ближайшей подруги, легендарной Тоти Изергиной, жены директора Эрмитажа, академика Орбели, как афоризмы из “Горя от ума”, расходились по городу и повторялись десятилетиями. Подобно пушкинскому герою, который всю жизнь изучал только одну книжку — “Опасные связи”, — новые поколения, воспитанные на рыковском Шодерло де Лакло, считали этот роман вершиной письменности и устным преданием одновременно».
 Антонина Изергина, 1955 г.
Антонина Изергина, 1955 г.Гляжу на свой текст двадцатилетней давности и вижу, что он совсем про «эх, как сказал». И еще вижу, что Леон отменяется. Все, что можно не чисто личного, а познавательного вытащить из моих о нем воспоминаний, все это теряется рядом с любой, самой мелкой частностью, которая осталась от Рыковой. Уж не говоря о том, что Леон устраивал экскурсии по мифу Орбели, а Рыкова в нем жила в буквальном смысле: Изергина ушла замуж из их общего с Н.Я. дома.
— Как жаль, что вы не застали Тотю, — говорила мне Н.Я. — Вы бы непременно с ней подружились.
По части «эх, как сказал» Тотя была королевой, но «все забывается, мой ангел, не моя в том вина», из многочисленных ее бонмо я помню несколько: членов Политбюро она называла «наши корнеплоды» и говорила, что фараоны правили тысячелетиями, надо запастись терпением. Другим известным остроумцем был Лев Львович Раков, тоже постоянный герой рыковских рассказов. Интеллектуал и красавец, которому жена Эйзенхауэра сказала: «Мистер Раков, вы — единственный мужчина в СССР, умеющий носить шляпу», Лев Львович — прямая связь с кругом Кузмина, он живет в его стихах и дневниковых записях, ему посвящен «Новый Гуль». И мифу Орбели Раков не чужой, он там и герой, и рассказчик, историю с защищенными в 1937 году дворянами со слов Ракова, работавшего ученым секретарем в Эрмитаже, мне рассказывала и Н.Я. Только в ее, то есть в раковской, версии у этой истории было продолжение, которое Леон то ли запамятовал, то ли постарался забыть за неприглядностью: оградив сотрудников от власти, Орбели вскоре, чем-то раздраженный, сильно раскричался, пообещав затравить их собаками, что не было «эх, как сказал», никакой метафоры: страшные псы бегали ночью по первому этажу Эрмитажа, защищая музей от воров. Так что сатрап был все-таки Иосиф Абгарович, не как Иосиф Виссарионович, конечно, но как Кирила Петрович Троекуров, в лучших сатрапских традициях.
 Лев Львович Раков, Ленинград, 1946–1948© Михаил Смирнов
Лев Львович Раков, Ленинград, 1946–1948© Михаил СмирновНадо сложить в кучку воспоминания о Рыковой. Но сначала закончу с коммерсантовской статьей. Там еще было такое: «На глазах исчезающее прошлое можно было реконструировать по ее речи. Человек редкого ума и образованности, она не доверяла всему абсолютному и беспрестанно утверждала все относительное, с одинаковой, почти пародийной страстью и в то же время ласковой, примирительной беспомощностью восклицая: “я ненавижу пошехонский сыр”, или “я ненавижу динамичную живопись”, или “я ненавижу русскую идею”. Почти всегда безобидная, ненависть у нее была неизменно торжественной: “Золотой хоругвью пронести / Можно человеческую злобу” — описывала она свои чувства к победившей советской власти в стихотворении конца двадцатых годов. Русскую идею она и в самом деле не жаловала, как, впрочем, и динамику в живописи, “обожая” любую статику: кватроченто и леонардесков, “Юдифь” Джорджоне и “Святую Агату” Луини, которая “с таким равнодушием глядит на свои отрезанные груди”, авангард двадцатых годов и особенно сюрреалистов, вообще все с некоторым сдвигом, все метафизичное и двусмысленное или даже просто похабное — то, что сейчас любят многие, совсем иначе, впрочем. Но разницу объяснить невозможно: это умерло вместе с Рыковой».
Про русскую идею скажу подробнее. Ее в поэзии, от Пушкина до символистов и дальше, она любила как стихи и ненавидела как идею. То, что хорошо в искусстве, плохо в политике, и наоборот — Рыкова страстно исходила из этой максимы. Главное тут страстность. Вот читаю сейчас ее рассказ, мною от нее не раз слышанный, об их споре с Андреем Белым в Коктебеле у Волошина в 1924 году, и там Европа vs. Россия определяется как металлическая и каменная культура против деревянной, как сушь против сырости, как отмериванье и разграниченье против безмерностей и безграничностей, как относительность против абсолютности. Я бы ровно так же стал действовать, ища тех же «эх, как сказал», но мне бы не пришло в голову, что этому я научился у нее, просто с ней разговаривая. Но это так, реплика в сторону, а по сути металлическая и каменная культура ничем ведь не лучше деревянной, как и сушь не лучше сырости. Страстность переворачивает любую конструкцию, страстно ненавидимое — уже почти любимое. И таким переворачиваниям я тоже у нее научился — свободе, в сущности. «Не надо бояться противоречий, — говорила мне Рыкова. — Только глупые люди их боятся и во всем ищут целокупности». Из этого не следует, что она из западницы превратилась в почвенницу — ничуть, она была убежденной, твердокаменной и цельнометаллической западницей, но она все понимала про почвенность, она с ней чувственно сжилась и сроднилась, она ее яростно, ненавистно обожала.
Эти же кульбиты происходили и в политике.
Главным в наших беседах был начавшийся в конце двадцатых ее «переход на позиции», как она сама его называла. Морок какой-то. Как так случилось, что уже взрослая, очень умная и культурная девушка из бывших, к тому же крымчанка, заставшая белое движение у себя под домом и ненавидевшая большевиков до судорог, как так случилось, что она вдруг в них уверовала, причем взахлеб? Надежда Януарьевна честно старалась ответить на этот вопрос.
— Я как раз тогда читала «Закат Европы», — объясняла она, — и с ужасом убеждалась, что там правда написана. Никаких метафор, простая документальная правда. И все вокруг говорило об этом. В Европе как раз началась депрессия. Плохо стало в Европе. Ну, значит, Шпенглер прав, и большевики-черти правы, капитализм умирает, очень жаль, но что делать? — пришло новое время, и надо к нему привыкать, оно неотступно.
— Ну хорошо, то есть плохо, вы убедились, что зло победило, но как, почему оно сделалось добром?
— Слушайте, человеку не нужны конфликты, никакому, это нормально. Не надо бояться противоречий, но культ из них делать тоже незачем. Человек хочет быть в мире с окружающим. И это тоже нормально. Я бедствовала при НЭПе, работы не было, денег не было совсем, а потом появились и работа, и зарплата. Бытие определяет сознание, тут эти сволочи правы.
— Но они ведь были не просто сволочи, мирные и уютные. Они были деятельные, кровожадные сволочи, агрессивно невежественные к тому же, как этого можно было не замечать?
— А я и замечала. Еще как замечала. Но грезилось-то другое. И это другое все затмило и вытеснило. Так бывает. Забудьте про целокупность, эту немецкую философию. Я лучше историю из жизни расскажу.
И вот тут возникал Лев Львович. История была про горячий май-июнь 1936 года, горячий в переносном смысле — уже пошли аресты, но и в прямом тоже: день в Ленинграде выдался солнечный, и вечер тоже был солнечный, когда Надежда Януарьевна села ужинать с Раковым, и они сразу заговорили об общей беде: арестовали НН, близкого обоим, безобиднейшего НН, не похожего ни на троцкистско-зиновьевского изверга, ни на японского шпиона. Ох, ах, какое нелепое недоразумение, но там, конечно, разберутся, и НН выпустят, вот увидите, а солнце сияет и не скоро зайдет, впереди белая ночь и вся жизнь впереди, им нет тридцати пяти, и жарко пахнет сиренью, и неумолчно поют соловьи. И Надежда Януарьевна, зажмурившись от того, что должна сейчас сказать, отчетливо произносит:
— А знаете, Лев Львович, что бы там ни происходило, но это мое государство, мой народ, моя страна, моя власть.
Лев Львович изумился:
— Да? Правда? Ваша власть? В самом деле? А тогда скажите, Надежда Януарьевна, за что вы посадили НН?
Рассказывая об этом, Н.Я. смеется:
— Я, конечно, вздрогнула от этого вопроса, вздрогнула, но тут же его отбросила. Дура была.
Про Льва Львовича еще помню чудесный рассказ. В первые дни войны Н.Я встретила его на улице в Ленинграде:
— Лев Львович! Лев Львович! Что же происходит! Какой ужас!
Он посмотрел на нее спокойно:
— Ну что вы так нервничаете, Надежда Януарьевна! Ну, придут немцы... Но вы же понимаете, они ненадолго. Рано или поздно их все равно прогонят американцы. А потом... — лицо Льва Львовича сделалось мечтательным, — потом все читают Диккенса.
И, помолчав, добавил:
— А кто не хочет, тот не читает.
Это конец июня 1941 года, а уже в июле Лев Львович пошел добровольцем в Красную Армию, прорывал блокаду, закончил войну полковником и директором Музея обороны Ленинграда, куда блокадники несли свои драгоценные реликвии, весь свой ужас, все сохраненное и выстраданное. Публичную библиотеку Лев Львович возглавил по совместительству, уйти из Музея обороны Ленинграда было невозможно, да и называли его в городе «блокадным директором». Но в музее было много оружия, и не важно, что битого, ни к чему не годного, оно же когда-то стреляло, с ним могли замышлять покушение на тов. Сталина, значит, оно злодейски готовилось. Музей был закрыт и разгромлен, бесценные экспонаты выброшены на улицу и уничтожены, а сам Лев Львович получил «25 лет тюремного заключения с поражением в правах на 5 лет». Про этот приговор он потом говорил: «Ну ладно, двадцать пять лет тюрьмы — куда ни шло, но потом в течение пяти лет не голосовать — нет, это уже слишком жестоко!» Тоже ведь «эх, как сказал», причем в моем любимом роде — мягкой, даже мягчайшей иронии, самой нежной, самой убийственной.
Если влюбляться в девочку, то в Тотю, если в мальчика, то в Ракова, и какая разница, что их нет в живых? Ведь прекраснейшей Тотей пленялся не только Орбели, но и Щеголев, и Пунин, а Лев Львович — вообще лучший, единственный, без всякой поганой расхожей андрогинности, умный и мужественный, такую комбинацию давно не носят. Он при речистом своем интеллекте был совсем мальчик-мальчик, мечтал стать моряком, но в военное училище его из-за дворянства не взяли, пришлось сделаться историком и в сталинском лагере потом сочинять «Новейшего Плутарха», шутейного, понятное дело. Но выставку про русское оружие он в тридцатые годы в Эрмитаже делал всерьез и, выйдя из лагеря, всерьез работал над книгой о форменной одежде.
Для людей из 1976 года форменная одежда была отстоем, хорошая одежда должна быть фирменной, Леон уважал пальто старинного кроя Loden, классический виски и сигареты из «Березки», сыну членкора к ним полагалась академическая дочка, и она была в ассортименте. Я был призван придать этой немножко типовой элегантности остроту и продвинутость небанальных соединений.
— Мы с вами Кузмин, Юркун и Гильдебрандт, всюду вместе, — радостно сообщил мне Леон. — Я Кузмин, а вы, Шурочка, — Юрочка.
— Вообще-то наоборот. Не Кузмин был женат на Гильдебрандт, а Юркун. Выходит, что именно вы — Юрочка, иначе не складывается.
— Ну и отлично, — сразу согласился Леон. — Тогда мы Мережковские — Дмитрий Сергеевич, Зинаида Николаевна и Философов, они тоже ходили втроем. Это-то складывается!
Но и это не складывалось, мы редко ходили втроем, Леон дружил с Сережей, надо о нем написать, еще с тысячью людей, все встречались в «Сайгоне», где кто-то обязательно за нами увязывался, и мы шли компанией дальше выпивать по злачным местам, а иногда и по дворам, и даже по парадным, в Питере были изумительные парадные, в них тогда водили гостей, как во дворец, но могли оказаться и в ресторане, за столом с белой скатертью, на Витебском вокзале, например, перед поездом в Царское (г. Пушкин) или на обратном пути оттуда. Там можно было вкусно отужинать, взять горячего бульона с яйцом, который хорошо оттягивает плещущий в организме алкоголь, там зеркальная модерновая стойка до потолка, такой бар в Фоли-Бержер, и в стеклянное его озеро, наполненное огнями отраженной люстры, хочется нырнуть, особенно если много выпито, а при возвращении из Царского мало выпито не бывало.
Поедем в Царское Село свободны, веселы и пьяны, таков гений места. Поездка в Царское пролегала по питейным заведениям, одним и тем же, хорошо проверенным, — по дороге на вокзал, на Витебском и потом, на пути от станции до парка, везде были рюмочные, они могли называться кафе-мороженым, главное, там наливали — где водку, где коньяк, где портвейн. Последнее заведение располагалось в воротах прямо при входе в Екатерининский парк, и в аллеи мы вкатывались уже на бровях, распахнутые в космос, там Холодная баня с Агатовыми комнатами, Руина и руины Китайской деревни, Геракл Фарнезский у Камероновой галереи и царскосельская статуя у воды, там Лицей и наш Агамемнон из пленного Парижа к нам примчался, и липы, липы, липы, и при звездах из тьмы ночной, как отблеск славного былого, выходит купол золотой. Поездка в Царское всегда была вон из Брежнева, вон из 1976 года, вон из всего советского, беспросветного, и, чтобы по-настоящему улететь, необходимо взять на грудь. Но мне не надо улетать, не надо предварительно наливаться, и даже в Царское попадать не обязательно, мне достаточно прийти на Казанскую (ул. Плеханова) и позвонить в дверь. Там будет мир, которого 60 лет как нет.
Это на самом деле не совсем так. В комнате Н.Я. на вас обрушивалась коллекция агитационного фарфора, изумительная, кстати, тарелки со спортсменами и колхозницами и даже каким-то супрематическим Ильичом густо висели по стенам, там же красовались очень робкие, дамские акварели Гильдебрандт, с которой Н.Я. всю жизнь дружила, семейная миниатюра начала XIX века, древнеегипетская собака, сидевшая на модерновом письменном столе, и огромная библиотека французских, немецких, итальянских и русских книг. Еще в комнате были николаевские красные кресла. Какой эпохи тут целое? Я думаю, со всеми частными особенностями это последний кузминский мир, творец которого умер в 1936 году — от старости скончался тот проказник. Я попал туда ровно сорок лет спустя, там все жило и пело, и ничто, буквально ничто еще не стало музеем.
Мир этот был, прежде всего, свободным. Может иметься в шкафу пальто Loden, а может и не иметься. А может не быть и шкафа. С рамой хорошо, но без нее тоже неплохо. Естественность — главная рама. Как-то к Н.Я. пришла дама сильно за 70, вышедшая из дома без зонта и попавшая под проливной июльский дождь. Квартира коммунальная, ванная занята, а платье полностью промокло. «Смотрите на Надежду Януарьевну, молодой человек, это гораздо интереснее того, что я могу продемонстрировать», — сказала мне старуха и с этими словами сняла через голову платье, чтобы повесить его сушиться. И в самом деле, не сидеть же мокрой, заболевая на глазах.
Мир этот был бисексуальным по умолчанию. А о чем тут говорить? Большинства табу для него не существовало. «Словом, если бы я была мужчиной, у меня бы на него не встал», — заключила Н.Я. свой рассказ про нашего общего знакомого и его нового любовника, который ей не приглянулся. Сложнейшая многоэтажная перверсия, в этой фразе задействованная, потребовалась не для характеристики неприглядного молчела — бог бы с ним, — а только для самой фразы. Она ценность, а не молчел. Это «эх, как сказал» во всем своем величии. Сплошное переворачивание заложено в самом процессе сочинения слов и в процессе их постижения. Суровый Дант не презирал минета. В нем жар души Петрарка изливал. Его игру любил творец Макбета… И в наши дни прельщает он поэта, ну и так далее, тут каждое лыко в строку. Переворачивающие любили играть с Пушкиным.
Посадили Надежду Януарьевну тоже за переворачивание. Это произошло во время войны. Н.Я. находилась не в Ленинграде, а в эвакуации, но и там было голодно, а тут выдался праздник, завезли морковку, друзья устроили пир и за яростный патриотизм вручили Рыковой орден: Н.Я. деятельно переживала победы наших войск, отмечая их на карте флажками. Орденом стала морковка совсем непристойной формы: огромный фаллос с чем-то очень похожим на тестикулы у основания. Тоже ведь «эх, как сказал». Вид этого ордена вызывал дружный смех. Вечером отсмеялись, утром заплакали: всех арестовали.
Переворачивание, собственно, и отличает кузминский круг от Ахматовой, у которой сплошные пафосные константы. «Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет». Ахматовское мужество не переворачивается. «А если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне». Это без комментариев. «А туда, где молча Мать стояла, так никто взглянуть и не посмел». Тут Мать с прописной буквы, а там морковка.
Но я твердо знаю, что при всей неистовой свободе слов, при том что хозяйкой светской и свободной был принят слог простонародный и мы обсуждали с Н.Я. любые сюжеты в любых выражениях, я так и не спросил у нее про их отношения с Тотей: немыслимый, абсолютно неприличный вопрос. Про пиписки можно говорить сколько угодно, а про чувства — нет, лезть в чужую душу своими лапами не позволено никому: крайняя живость речи на самом деле вуалирует такую же крайнюю стыдливость, мат сплошь и рядом является верным признаком целомудрия.
С Леоном я встречался всю осень 1976 года, но меня зимой отчислили из дурацкого моего института, и я уехал в Москву, а вернувшись назад в Ленинград, забыл ему позвонить, а потом стало незачем, и мы долго, очень долго не виделись, может, несколько лет, и вдруг он меня нашел. «Суровый Дант не презирал минета», — радостно прокричал он вместо «здравствуйте». Я скис: «Да-да. У нас еще его не знали девы, как для него уж Дельвиг забывал. Это я в курсе, Леон. Вы что-нибудь другое расскажите». Но ничего другого Леон рассказывать не планировал, он уже сильно дунул. Я не раз видел его выпившим, и в этом было много бодрости и обещания новых высот, водка сушит и трезвит. Но тут все было иначе. Человек больше не очаровывает, и все в нем делается неприятным, становится неопрятным, на нас падал мокрый снег, и непромокаемый его Loden словно впитал воду, позорно набух, и пуговицы-мячи поникли головой. Леон качался с пятки на носок и что-то говорил. Я не мог разобрать, что. Но потом услышал: «И повторяют: ты». И еще раз: «И повторяют: ты». И в третий раз: «И повторяют: ты». Ничего не понимаю. Не дышите на меня перегаром. И вообще мы с вами на «вы», Леон.
Больше я его не видел.
Сережи тогда с ним не было, и, наверное, его уже не было в Ленинграде, он переехал в Америку. Про Сережу я так и не написал, хотя, конечно, читателю это всего интереснее. Но что я могу рассказать? Как мы стояли в очереди к Стеле, пили маленький тройной, сваренный Люсей? Он был высокий и красивый, мне нравился. Я помню, что Леон с почтением к нему относился, называл писателем, но я читал тогда Пруста, зачем мне Сережа?
Леон погиб в сентябре 1980 года в Крыму, купил арбуз и шел с ним домой, когда его сбил мотоциклист — какой-то байкер, прилетевший из будущего. А Сережа стал памятником, стоит на Рубинштейна, где жил, каменный и толстый, каким он никогда здесь не был.
Надежда Януарьевна умерла в 1996 году, последнее время мы не виделись.
Я редко вылезал из Москвы, до ночи сидел в «Коммерсанте», там была жизнь, я строил капитализм. Но капитализм тут так и не построился, в России снова Николай I, который, кажется, никогда нас не покидал. Бичуемые великой русской литературой «свинцовые мерзости» установились на очередную тысячу лет, а я потерял те драгоценные годы, когда еще была жива Надежда Януарьевна и я мог с ней общаться, ее слушать и любить. Потому что это была любовь, конечно. Не к Тоте, не ко Льву Львовичу — их уже не существовало, а к Надежде Януарьевне, которая ими стала, воплотив их словесно. Чувственная, поцелуйная осязаемость букв и звуков, я слово полюбил, что я хотел сказать. А в нем дышит эрос, безнадежный, как ему и положено.
Пальто Loden я не купил ни в 20, ни в 30, ни в 40 лет, а потом это стало не важно. Но в прошлом году, гуляя в Риме по любимой Governo Vecchio с ее винтажными лавками, мы с Николой зашли в одну из них, и в дальнем углу друг мой нарыл что-то темно-зеленое: «Узнаешь?» Это был Loden полувековой давности, может, чуть посвежее, сорокалетний, как их отличить, они не менялись десятилетиями; ни разу не надеванное, а теперь уцененное пальто, на нем не хватало одной пуговицы; напротив нижней петли была девственная, не тронутая никакой иголкой ткань, три маленькие пуговицы сидели на своем месте, а из трех больших имелись только две, деревянные, обшитые кожей, с крестом, и это был крест на всей покупке: очевидно, что сегодня третьей такой пуговицы не добыть ни в первом Риме, ни тем более в третьем. Можно попробовать поискать ее в Лондоне или в Вене. Ну конечно, в Вене, пальто оттуда, там складированы тысячи пропащих подробностей, там культ мелочей, прелестных и воздушных, там есть музей бабочек и в рифму к нему — музей смерти, там чтят Сисси и тот вещный мир, который она благословила на полтора столетия вперед, там заботливо сберегается и горделиво выставляется наш драгоценный, наш нежно любимый мусор, называемый антиквариатом. И вообще полет в Вену за пуговицей — это очень правильное завершение покупки пальто Loden. Но пуговицы с крестом не нашлось в самой Вене. Хозяйка пуговичного царства подобрала по размеру точно такие же, как у меня, обшитые такой же кожей, только без креста. Проблема с пальто была решена, но эх, эх, без креста, с тоской думал я и вдруг увидел мячи как у Леона — шесть пуговиц-мячей — и немедленно их схватил. Пусть будет два набора, они оба прекрасные, и не надо выбора, зачем решать, какой из них пришить, — я все равно не стану носить Loden, смешно даже. Леон пересказывал анекдоты сорокалетней давности, прошло еще сорок лет, и теперь их пересказываю я, бабушкину швейную машинку кручу, пасьянс раскладываю. Для этого достаточно взять пуговицы в руки, нет, зачем их брать? Можно мысленно приставить к пальто один набор, потом другой, соединить с третьим, перемешать их, раскидать по темно-зеленому сукну, сгрести и потасовать вновь, кузина Виридиана давно готова играть в карты. Можно написать эту фразу, торжественно откашлявшись и пародийно закольцевав композицию, а можно обронить ее невзначай, и тогда вдруг возникнет всамделишная драма, а можно все соединить, чтобы смех и слезы стали неразрывны, и, взметнувшись вверх, в неудержимом пафосе, тут же рухнуть, сползти под плинтус, затеряться там, замереть, только какой в этом смысл, ведь ничего не вернешь, все равно не изменишь и даже не вспомнишь, не опишешь — связать нельзя черты, не восстановишь круга, своей неправоты не отогнать испуга, и смотрят друг на друга, и повторяют: ты.
Понравился материал? Помоги сайту!
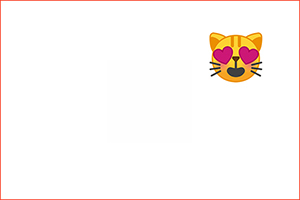 Молодая Россия
Молодая Россия









































