 Литература
Литература«Гавриилиада» Пушкина и эротическая утопия американского социалиста
 © UC Berkeley
© UC BerkeleyВ издательстве Corpus на следующей неделе выходит книга «Дом правительства. Сага о русской революции» американского историка, профессора Калифорнийского университета в Беркли Юрия Слезкина — результат 20 лет интервью и работы с документами. Дом, который с момента выхода одноименного романа Юрия Трифонова называют не иначе как «Дом на набережной», набит литературой: о его героях пишут в газетах и книгах, и сами они постоянно читают и пишут. Поколение, которому мы обязаны самым крутым поворотом истории ХХ века, показано в «Доме правительства» через книги, дневники и отцовские кабинеты. Тех, кто не жил в доме, — то есть ни Сталина, ни Молотова — в книге Слезкина практически нет. Все герои собраны строго по месту жительства, но автор взялся доказать, что это не единственное, что их объединяет.
Накануне выхода книги в Москве Максим Трудолюбов поговорил с автором «Дома правительства».
— Стройка — хорошая метафора. Большевики начинали строить то, что они называли социализмом, не имея проекта. А вот у Дома правительства проект был, и вообще это одно из немногих жилых зданий, которые в принципе строились в то время.
— Это здание — действительно метафора. Дом правительства строился одновременно с Советским Союзом и, если угодно, со сталинизмом — в годы первой пятилетки. Жители строили новую экономику, новое государство и в то же самое время — дом, в котором собирались жить со своими семьями.
Говорили о городах и жилье бесконечно, писали о том, как должны быть устроены дома-коммуны. А строили мало, заботы у государства были другие — индустриализация, коллективизация (или «период реконструкции», как они его называли). Строительства было много, но в основном промышленного и метафорического. Одним из немногих жилых объектов был Дом правительства.
— Начиная читать, я как раз и думал, что книга будет про дом и его жильцов. Но оказалось, что героев повествования связывает что-то помимо места жительства. Главная метафора книги (или это не метафора?) — секта. Как вы вышли на идею секты?
— Я не задавался целью писать о секте. Когда я взялся за книжку, я ничего не знал о сектах. Идея пришла мне в голову в процессе чтения писем, манифестов, дневников и других документов. Меня поразило количество упоминаний слова «вера», поразило, как эти люди мыслят и на что надеются. Поразило сходство того, что они говорили, с тем, что я помнил из литературы на другие темы. И я стал читать о милленаризме, апокалиптизме и других подобных явлениях. Вначале я собирался «построить» Дом правительства, «заселить» его, посмотреть на то, как люди там живут, и стать свидетелем их ареста и казни. А закончилось дело книжкой, гораздо большей по размеру и во всех отношениях большего масштаба.
Я не считаю большевистское сектантство метафорой. Я не сравниваю большевиков с религиозными сектантами. Я не употребляю слово «религия», потому что оно только затемняет ситуацию. Я утверждаю, что они — сектанты без кавычек.
— Сектанты какого рода?
— Апокалиптический милленаризм — это вера в то, что мир несправедливости и угнетения кончится в результате катастрофического насилия при жизни нынешнего (или, самое позднее, следующего) поколения. Некоторые такие движения называют религиозными, некоторые не называют — это зависит от того, какое определение религии вы используете. Но для меня это не имеет значения. Когда я, читая документы, понял, что большевики — каким определением ни пользуйся — апокалиптические милленаристы, я стал смотреть на них в сравнении с другими такими же движениями. Карго-культы, раннее христианство, ранний ислам, мюнстерские анабаптисты, красные кхмеры, Тайпинское восстание (самое масштабное и разрушительное движение этого рода (религиозно-политическое движение в Китае в 1850—1864 годах. — Ред.)) — все это милленаристские движения. Сравнения по числу участников и жертв не так интересны. Важна суть дела.
Сами большевики не считали свою партию партией в том смысле, в каком ее определяют политики и социологи. Это не ассоциация, деятельность которой направлена на завоевание власти в рамках существующей политической системы. Это организация, деятельность которой направлена на свержение существующей политической системы в контексте крушения всего старого мира — мира несправедливости и неразрешимых противоречий. Ленин называл ее «партией нового типа», но мог бы назвать сектой обычного типа.
— Они не останавливаются перед жестокостью, но они постоянно переживают и плачут. Смерть Ленина вызывает потоки слез, убийство Кирова вводит в ступор. Почему? Они такие невероятно эмоциональные?
— Я думаю, что это связано с их убеждениями, с пророчеством, в которое они верили, с интенсивностью ожидания, с жертвенностью, которая изначально была частью большевизма. Кроме того, важно не забывать, что в начале книги речь идет об очень молодых людях. Это эмоциональные, трепетные юноши и девушки, проникнутые лихорадочными апокалиптическими настроениями. Они жили на конспиративных квартирах, в тюрьмах, в ссылке. В их мироощущении сочетались тоска, обреченность и страстная надежда на приход «настоящего дня». И произошла невероятно редкая в истории таких движений вещь — их апокалипсис случился. Настоящий день пришел. По крайней мере, начался у них на глазах. Все как предсказал когда-то другой милленарист: «Предаст же брат брата на смерть, и отец — детей; и восстанут дети на родителей и умертвят их» (Мк. 13:12).
Переписка эпохи Гражданской войны поражает невероятной интенсивностью переживания. Экстремальный опыт — экстремальные эмоции. Всех милленаристов рано или поздно постигает то, что в американской истории известно как «великое разочарование»: время идет, а пророчество не сбывается. Большевики переживали его особенно болезненно, потому что они уже победили в «битве при Армагеддоне». Только победили, а тут сдача позиций на Х съезде, смерть харизматического лидера и суета в «домах Советов», в скорлупе старого мира. Период НЭПа — это их великое разочарование. Это очевидно, если читать партийную литературу 1920-х годов или просто смотреть на то, как эти люди жили, как плакали, как лечились в санаториях.
— Постоянное лечение и забота об отдыхе — это Ленин начал? У него в письмах еще до революции всегда чувствуется подчеркнутая забота о здоровье коллег…
— Они все время болеют. Партия бесконечно озабочена чьими-то болезнями, кого-то отправляет лечиться чуть ли не насильно. Это часть культуры среднего класса того времени — популярность вод, курортов и санаториев. Занимались гимнастикой по системе Мюллера. Делали зарядку в тюрьмах, поддерживали в себе тонус и боевой дух.
Важно помнить, что мало кто из борцов за народное дело вышел из народа. Они в основном принадлежали к провинциальной разночинной интеллигенции в значительной степени из мятежных приграничных областей (евреи, латыши, поляки, грузины). Пролетариев среди вождей пролетариата почти не было.
В 1920-е годы болезни превратились в эпидемию, распространились термины «неврастения», «психоз», «психоневрастения», «нервное истощение». Имелось в виду, что человек так много сражался, столько сил отдал революции, что стал совсем плох. Все изменилось в 1930-е годы, когда большевики стали иначе думать об эпохе и о себе — когда началась сталинская революция и вернулась надежда на исполнение второй части пророчества. Мертвые восстали из гробов, все остальные перестали плакать и взялись за дело. И сидевшие в ссылке оппозиционеры стали молить о прощении и проситься на трудовой фронт. А если такой возможности не было, как у Троцкого, то дулись на то, что их программу выполняют неправильные люди.
— Ощущение «осажденной крепости» начинается в 1920-е, 1930-е? Или это вообще их свойство?
— Это их свойство. Не то чтобы я, раз решив, что большевики — секта, стал им приписывать все, что я знаю про секты. Просто выяснилось, что многое из того, что я в них нашел, соответствует тому, что мы знаем о сектах. Отделенность от окружающего мира — одна из отличительных черт раннего большевизма. А секта, какое определение ни возьми, — это группа единоверцев, отделенная от враждебного, греховного, обреченного мира. Большевики много писали о том, что для них значило быть частью этого священного братского сообщества и какая пропасть отделяет их от обывательского «болота». Ну и Дом правительства был осажденной крепостью.
 Дом на набережной. 1936© Анатолий Гаранин / РИА Новости
Дом на набережной. 1936© Анатолий Гаранин / РИА Новости— Они видели себя в окружении и внутри страны?
— Дом на набережной был огромной крепостью. Когда он открылся, в стране шла коллективизация. Жители знали и не знали, как это происходило. Они издавали указы и составляли планы, но не обсуждали, какой ценой это давалось. Они не говорили со своими домработницами о том, что произошло с их семьями. Они были осажденной крепостью в том смысле, что были окружены советскими людьми, которые таковыми не являлись. Советский Союз был осажденной крепостью в буржуазном мире, Дом правительства — в Советском Союзе, а каждая квартира — в Доме правительства. И каждый большевик находился в осаде в собственной квартире. Мы видим, как они страдали из-за того, что их со всех сторон обступает жизнь. Растут дети, на столах появляются скатерти, на окнах — занавески, приезжают родители, родственники. А малых семей там почти нет, у всех большие семьи. Въезжает тесть — бывший раввин, теща шепотом читает молитвы, деревенская домработница тайно крестит детей. Правоверный большевик обрастает вещами и бедными родственниками. Те, у кого было время подумать, знали, что каждый день и каждый час предают свою веру. Поэтому, когда за ними приходили, они знали, что в каком-то смысле виновны.
— Террору было множество объяснений, от психологических до связанных со страхом перед внешней угрозой, выученным Сталиным в годы Гражданской войны, страхом перед Германией, Японией, «пятой колонной», появившимся в годы испанской Гражданской войны, и т.д. Вы же сравниваете казненных с жертвенными «козлами отпущения» и вписываете казни в логику секты…
— Одно другому не мешает. Все, что вы упомянули, — тоже правда, но я пытаюсь идти дальше. В результате сталинской революции все советские граждане стали по определению верующими коммунистами. А раз так, то несогласие с официальной доктриной из политической оппозиции превратилось в вероотступничество. Новым преступлениям соответствовали новые наказания.
— Когда начинаются обвинения, они реагируют не так, как обычные люди реагировали бы на обвинения. Они не углубляются в факты и улики, а углубляются в себя, начинают исследовать свою душу, обнаруживать там «раздвоенность»…
— Это очень важно. Под магнетическим влиянием слова «религия» люди отделяют одни секты от других и потом страшно удивляются: «Посмотрите, что говорит Бухарин или что пишет Зиновьев!» Но если забыть про это слово, то выяснится, что с людьми, которые придерживаются определенного типа убеждений, происходят одни и те же вещи. Конечно, у всех этих движений есть своя специфика. Конечно, большевизм сильно отличается от раннего христианства, раннего ислама и сект Джима Джонса, Дэвида Кореша, Чарльза Мэнсона и Марии Дэви Христос. Но вера у них в широком определении милленаризма одна. И когда пророчества не сбываются, с адептами происходит примерно одно и то же. Одно дело — «рутинизированный» христианин, который исходит из того, что второе пришествие — фигура речи; другое дело — человек, который ждет конца со дня на день. Тут эмоции другие. И когда доходит до охоты на ведьм, моральной паники и козлов отпущения, то и масштаб другой. Особенно когда верующие находятся у власти.
Нам, людям, живущим в рутинизированном мире, в мире быта, противоречий и непоследовательности, трудно понять людей, которые живут другими надеждами и видят другие горизонты. У них иначе течет время. Если ты исходишь из того, что мир может кончиться завтра, то и сегодняшний день ощущается по-другому. И когда речь заходит о поиске виновных, то люди говорят иначе, говорят о другом.
— Поэтому они так легко признавали вину?
— Все они, как всякий верующий, знали, что грешны. Знали, что в какой-то момент в мыслях погрешили против партии. И вставал вопрос: можно ли перенести признание греховности мысли на признание преступности поступка? Многим этот переход давался с трудом. Практически все старые большевики видели в следователе единоверца. И вот, читая эти документы, начинаешь понимать их видение своего места в истории и их отношение к внешнему миру. Когда Иисусу сказали, что вот, матерь твоя и братья твои ждут тебя, он ответил, показывая на учеников: «Вот матерь моя и братья мои» (см. Мф. 12:47—49. — Ред.). Большевики так и жили. До революции у них хорошо получалось, и они много об этом писали, а в Доме правительства стало трудно. Но вера осталась. И погибали они как верующие.
— Когда это закончилось, когда секта прекратила существование, веры не стало?
— На это можно смотреть по-разному. Если говорить о вере, которая заставляла писать письма Сталину о любви, о пророчестве, о необходимости генеральной чистки, то такая вера кончилась казнью авторов писем. Дальше было прозябание выживших. Одно дело — живая вера в скорый конец света, другое — когда апостол пишет в послании, что последние времена придут как «тать в нощи», то есть неизвестно когда (см. 1 Фес. 5:1—2. — Ред.).
С другой стороны, рассказ о вере можно закончить картиной возвращения женщин из АЛЖИРа (Акмолинский лагерь жен изменников Родины — неформальное название женского отделения Карагандинского ИТЛ в Акмолинской области, Казахстан. — Ред.). Как они возвращаются, въезжают в квартиры своих детей и находят другой мир. Или отправляются жить в Переделкино, в Дом ветеранов партии, и к ним как с другой планеты приезжают внуки и гуляют с ними по дорожкам. Об этом много у Трифонова — о том, как они друг друга не видят и не слышат. Та вера и та секта умирают вместе с этими старухами.
— Сталин у вас остается почти за кадром. Он для них — «Великий инквизитор», персонаж Достоевского, осознавший, что нужно не ждать «второго пришествия», а строить систему?
— Про Сталина ничего нового я сказать не могу. Да он и не живет в Доме на набережной. Это хорошо, потому что в исторических романах не принято делать королей главными героями. Главные герои Вальтера Скотта — вымышленные или второстепенные персонажи. В отличие от человека, пишущего исторический роман, я ничего не мог придумывать, так что очень удачно получилось, что Сталин жил на другом берегу реки. И не так важно, что он думал. Мне кажется, что он был истинным большевиком, верующим человеком. И при этом — прагматичным главой государства. Все они были и верующими, и чиновниками.
— Не стала ли «теория секты» тем приемом или нарративом, за которым вы следовали, — слишком мощным, оставляющим в тени все остальное?
— В какой-то степени стала. Но мне кажется, что большевики и были такого рода сектой. Многое из того, что с ними произошло, можно понять в свете того, что мы знаем о сектах. Я не думаю, что я слепо шел за этой моделью. Установив определенные рамки, я, мне кажется, смог ответить на некоторые очень старые вопросы. Какие-то вещи перестали казаться мне удивительными.
Так и должно быть, по-моему. Если вы находите объяснение какой-то загадке, то неожиданно высвечиваются и другие вещи. То же самое у меня произошло с предыдущей книжкой — о евреях («Эра Меркурия: евреи в современном мире» (2005). — Ред.). Я начал с уникальности еврейской истории, но чем больше читал, тем менее уникальной она мне казалась (оставаясь, конечно, единственной в своем роде). Так же и тут. В каком-то смысле удобно считать большевиков ни на кого не похожими. Или, если вы их сильно не любите, считать их похожими на нацистов.
— Каково было наследие первого поколения строителей СССР? Следующее поколение построило рутинизированную систему?
— Построили не очень хорошо. Мы знаем, как Советский Союз кончился. Не получилось как следует рутинизировать. Христианство вот уже 2000 существует как цивилизация. А коммунисты сгинули. Выдвиженцы моих героев умерли, и с ними умерло государство, которое они построили. Вернее, что-то у них получилось, и немало. Они — единственная милленаристская секта, которой удалось захватить власть в Вавилоне. Христианство стало официальной религией Римской империи через четыре века после смерти пророка, когда мало кто ждал конца света со дня на день. А большевики захватили власть, оставаясь страстно верующими милленаристами. Такого не было никогда. Но продолжалось это недолго.
— Многие из героев книги в правовом смысле — преступники. В книге созданы контексты — их вера, их литература, — в которых они не то чтобы оправдываются, но становятся человечными. Они и разбойники, и Иовы. Что вы думаете об этом?
— История — вернее, та ее разновидность, которую я практикую, — не Гаагский трибунал. И литература, которую я люблю читать, — тоже. Один из эпиграфов книги — жалоба Мефистофеля из «Фауста» на то, что у него «с некоторых пор» стали отнимать души. Я тоже попытался спасти души большевиков от дьявола. Не для ангелов, а для читателя.
— Почти все герои книги — публицисты и литераторы или хотят ими быть. Ну и, конечно, есть Трифонов, отцы и дети революции в его видении, Дом на набережной в его изображении. Была ли литература сразу частью замысла? Как вы сами для себя определяете, что значит эта литературная составляющая в книге?
— Да, литература была частью замысла. Идея истории квартиры или дома предполагала такой подход. Трифонов (когда я остановился наконец на Доме правительства) сделал его обязательным. Но в процессе написания «литературная часть» стала еще больше. Мои герои все время читали и писали. Книги определяли, наполняли и описывали их жизнь. Моя книга — последняя (пока) в этом ряду.
— Одна из причин того, что советская эпоха, как вы пишете, продлилась всего одно поколение, — недостаточная русскость большевизма и чрезмерная русскость страны, которой он завладел. У национальных государств, бывших внутри и вокруг СССР, была возможность списать коммунизм на Россию и определить для себя советский период как оккупацию со стороны России. Украина стремится добиться того же. Есть ли такая возможность у самой России? Насколько внешним, сторонним явлением был, на ваш взгляд, советский строй?
— У России нет такого выбора. Во-первых, на кого сваливать? Обвинять Россию геополитически выгодно и в некоторых случаях (речь не об Украине) правдоподобно и мифологически продуктивно. А на обвинениях в адрес евреев, латышей или грузин далеко не уедешь и единство не укрепишь. Во-вторых, трудно представить себе правительство, которое сочло бы «декоммунизацию» политически осмысленным шагом. Ну и, в-третьих, победа в Великой Отечественной войне — одно из главных событий в русской истории и лучший в дальней перспективе общегражданский национальный праздник, несмотря на все излишества официоза. А победа произошла при коммунистах и без них непредставима.
— Русский перевод сильно отличается от английского текста, вышедшего в 2017-м?
— Это та же самая книга — но не перевод с английского, а отдельная русская версия. В какой-то момент я понял, что пишу книжку не на том языке. Начал с английского перевода, а потом написал русский оригинал. Это очень русская книга. Она только тогда заживет по-настоящему, когда выйдет по-русски.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
Понравился материал? Помоги сайту!
 Разбираетесь в искусстве XX века?
Разбираетесь в искусстве XX века?
Давайте проверим вас на птицах и арт-шарадах художника Егора Кошелева
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Литература
Литература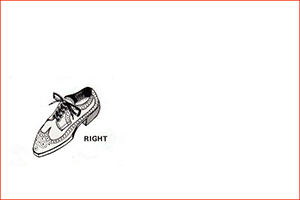 Молодая Россия
Молодая Россия«Говорят, что трех девушек из бара, забравшихся по старой памяти на стойку, наказали принудительными курсами Школы материнства». Рассказ Артема Сошникова
31 января 2022627 Искусство
Искусство Современная музыка
Современная музыка Кино
КиноДенис Вирен — об амбивалентности польского фильма об Освенциме, выходящего в российский прокат
27 января 20222096 Современная музыка
Современная музыкаТурист, модник, художник и другие малоизвестные ипостаси лидера «Кино» на выставке «Виктор Цой. Путь героя»
27 января 20221870 Молодая Россия
Молодая Россия«Ходят слухи, что в Центре генетики и биоинженерии грибов выращивают грибы размером с трехэтажные дома». Текст Дианы Турмасовой
27 января 2022773 Литература
Литература Общество
Общество Кино
Кино Литература
Литература Общество
ОбществоКак правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»
25 января 20222098