 Современная музыка
Современная музыкаШумов & Борзыкин. «Правильно»
Лидер «Центра» и лидер «Телевизора» выступают против бешенства коллективного иммунитета
19 ноября 20211554 Т.Н. Глебова. Сценки в блокадном Ленинграде. Из серии «Ужасы войны для мирного населения». 1942© Государственный музей истории Санкт-Петербурга
Т.Н. Глебова. Сценки в блокадном Ленинграде. Из серии «Ужасы войны для мирного населения». 1942© Государственный музей истории Санкт-ПетербургаПубликуемый текст — глава из книги Полины Барсковой «Седьмая щелочь» (Издательство Ивана Лимбаха, 2020 г.), которая вышла сегодня электронным изданием на Букмейте.
Мы туда вернемся
Все втроем
И окликнем сидящих молча
За пустым столом.
Павел Зальцман
Самое грустное (смешное, бессмысленное, ненужное — нужное подчеркнуть), что он в самом деле вернулся в свой город после блокады, тринадцать лет спустя.
Не втроем, но вдвоем. Как на всякое важное дело, прихватил на эту встречу свою верную спутницу, внимательную девочку Лотту с сезанновскими беличьими глазами, и отправился на разведку. Его целью было навестить и проверить оставленных там, сидящих молча своих — да и себя, тоже оставленного в смертном городе летом 1942 года. Что именно он увидел в ту поездку, мы определенно сказать не можем, потому что он нам не сказал вполне, но, скорее, показал своим отступлением вспять, в пышный и бедный, совершенно чуждый, накрепко приласкавший его город Алма-Ата.
Записывая в дневник наблюдения тех дней, он подробно оценивает их с Лоттой посещения антикварных и букинистических магазинов и ресторанов, причем регистрируются не только подробности меню, но и поза самого едока. «Я захлопываю дверь и спускаюсь в буфет, где пью пиво. Ожидаю в кресле, заложив ногу на ногу» (359) [1]. Подробнее всего в этих воспоминаниях описаны старые вещи и новая, обильная еда. Описаны они жадно (это слово — тик дневника, его ноющий нерв): посетители города жадно едят и пьют и жадно смотрят на него.
Так смотрят на нелюбящую любимую во время случайного и бессмысленного рецидива романа (еще один раз дотронуться, да хоть бы она и не заметила, нам-то что). Старые вещи могли напоминать ему о жизни, которая была, еда — o жизни, которой не стало. Вещи и еда: а все то, что мы могли бы обозначить с придыханием как значительное, важное для нашей возможности понимания его попытки возвращения, дается росчерком, прочерком почти, стенографически, наименее подробно.
Известно, что были встречи с друзьями, блестящими художниками ленинградского авангарда и андеграунда, — Татьяной Глебовой, Владимиром Стерлиговым, братьями Траугот, литераторами Яковом Друскиным и Всеволодом Петровым. Каждое из этих имен — сверкающая черная метка, врученная не умеющим не приносить приплод талантов городом на растопку слепоглухонемым временам, каждое из этих имен — черный ящик, внутри которого ослепительно переливается, вздрагивает материя сопротивления окружающему безвоздушному, чужому пространству истории. Друзья его были такие же, как и он, — пережившие (блокадную катастрофу? свой город? своих? себя?). Пережившие, недоумершие, оставшиеся в городе или сумевшие к нему вернуться. Об этих встречах в его заметках говорится вскользь, бормотком. Как будто и не жадно смотрит он на бывших близких и их дела, как будто ему не важнее всего их мнения о его работе и собственное — об их труде и опыте. Лишь однажды внимательный, изготовившийся для письма взгляд его замирает на новых работах Глебовой, художника и человека, вызывающего у Зальцмана особое любопытство, возможно, из-за близости к Филонову, из-за ощущения сродства судеб: «Вещи Татьяны Николаевны, на этот раз ее знакомые сочетания, внешне злые и очень недурные, особенно по цвету, с обычной гадливостью, но и отсутствием брезгливости» (369). Именно понимание различия между гадливостью и брезгливостью роднило их, потерявших своего учителя, своих отцов, свой расчет на ясное, как крик любви, наслаждение работой по искусству. У них были общая прошлая жизнь, общая почти смерть и невероятное избавление: обоим удалось бежать из/от блокады, чтобы блуждать нищими, голодными по бесстыдным рынкам эвакуационной Алма-Аты. (Впрочем, по этим, как и по ташкентским, рынкам бродили в сложных чувствах многие блокадные выжившие.)
Визит Зальцмана в город посвящен проведыванию руин, останков (былых дружб, любовей, амбиций — остатков себя), здесь он понял и принял, что в области зрения руина — его жанр: идея остатка, но при этом и зияния. Он не может перестать смотреть на город своего посмертия. Что имеется в виду? Про блокадную зиму говорили: смертная пора. Бежавший от смертной поры Зальцман связан с ней нерасторжимо: «…сворачиваю к Александринке и иду от улиц — Театральной, по которой тащили гроб тогда, когда папа умер, другого кладбища нет, кладбище — весь этот город» (368). Последующая жизнь города для него — это жизнь вампирическая, жизнь живого мертвеца — энергичного персонажа его стихов («я пить хочу, я жить хочу, затем я и лечу»). Все в нем, в этом городе, — властное, мучительное напоминание о небытии, об исчезании; о том, как человеку дается наблюдать собственный распад, конец.
По возвращении Зальцман пытается войти вновь, зайти дважды в свой дом детства, в свою блокадную квартиру — натыкаясь там на тех, кто, как и он, были свидетелями тому… того (грамматические управления разваливаются, нижняя губа трясется), на что смотреть нельзя, но на что и перестать смотреть невозможно — не насмотреться: «Как еще хочется смотреть на этот город!» (368).
Жадный взгляд Зальцмана может напомнить нам термин «Горгона» одного из самых дотошных описывателей лагерного ада Примо Леви: «Те, кто увидел Горгону, уже не смогли говорить». Только пялиться. На что смотрит, не отрываясь, Павел Зальцман? Что лишает его слов? Что дает ему слова? Для Зальцмана, я думаю, Горгоной является руина города: не сама блокада, что принципиально для данных размышлений, но то, что осталось от нее, после нее. Вид города, оставшегося от… лишал его чего-то, без чего он не мог быть, не мог писать… и он бежал, бежал.
 Автопортрет П. Зальцмана из блокнота
Автопортрет П. Зальцмана из блокнота«Я вошел, очень неспокойный тем, [что] <…> зашел прямо в нашу квартиру. Открыла девочка хозяйка, говорит, что ничего не было, когда въезжали, только фортепиано — я сразу узнал его. Комната, оклеенная яркими голубыми обоями, показалась мне даже больше, чем я ожидал. В последнюю минуту я приоткрыл дверь и заглянул в комнату папы и мамы. Это трудно было выдержать, говорить я уже не мог и быстро ушел — девочка меня провожала — чтоб не плакать…» (356).
Это пустой город: Зальцман в штучки-чудеса не верит (когда они являются, их не признает, а ведь в этой поездке поэту достаются новая любовь и отцовская «игровая» Библия), он к чудесам теперь относится без умиления, без доверия, как к должному. Погубивший и отринувший его город ему должен: «Она сразу сказала <?>, и племянница быстро достала из шкафа папину Библию» (356). Город выблевывает из своих руин-кишок дивный дар, ненапрасный, неслучайный, насмешливый. Шуточная Библия Зальцмана-старшего, набор насмешек и пародий на библейские темы, вернулась к сыну, которому отрицание Божества, разочарование в нем дались дикой, горькой ценой. Библейский Иов достается Зальцману по наследству, но при этом выдается чужими людьми, заполнившими собой комнаты нежных и нервных его папы и мамы, умиравших от голода на глазах у нежного и нервного сына, среди голубых обоев. Чужие люди заполнили эти комнаты.
Зальцман, Глебова, Петров, прочие им подобные должны были голодную агонию и безумие родителей пронаблюдать, запечатлеть и как-то отринуть от себя либо замуровать в себе. Глебова рисует портрет ненаглядного отца в агонии, длится агония, длится и работа неуемной портретистки. (Вот любопытная история о том, как неподвластная, упорная художница пыталась отца спасти, делая и переделывая открытку, которая могла бы, как она надеялась, принести ей дополнительный мизерный паек, если бы Решатель Судеб Блокадных Художников Владимир Серов не нашел в этом издевательстве, бесконечном посылании открытки на улучшение, особого себе наслаждения. Так она и не сумела улучшить открытку, и отец ее пропал, растворился в блокадном мороке.)
Гибель родителей — один из главных сюжетов блокады и блокадного письма. Иждивенческая карточка была приговором миру блокадных стариков, миру петербургских пережитков. Примечательно, что король поэтов тьмы, чьи родители растворились в лагерях, тезка Зальцмана Павел Целан погиб, ушел в свою реку, может статься, именно оттого, что гибели своих родителей не увидел, но беспрестанно ее воображал, а Зальцман, и Глебова, и Гор, и Гнедич, и Берггольц, и Гинзбург, и Фрейденберг (и многие им подобные) увидели, насмотрелись, написали и так потом выжили всю свою послеблокадную жизнь целиком.
В том, что девочка вернула Зальцману именно отцовскую шутовскую Библию (прочие бумаги пропали), хочется видеть особый смысл, так как речь идет о главном религиозном поэте и главном религиозно-философском поэтическом «проекте» блокады, о том, кто нашел целесообразным уместить свой исторический опыт в форму Иова (форма эта: струпья да лохмотья).
Вот, возможно, один из самых странных и самых важных блокадных текстов, и принадлежит он Павлу Зальцману:
РЫ-РЫ
Я дурак, я дерьмо, я калека,
Я убью за колбасу человека.
Но пустите нас, пожалуйста, в двери,
Мы давно уже скребемся, как звери.
Я ж страдаю, палачи,
Недержанием мочи!
17 сентября 1941
Завод им. К. Маркса
Для историка блокады (если бы этому историку вздумалось читать стихи) самое странное в этом тексте — дата. В сентябре в городе голода еще не было, но страх уже был: голода, бомбежки, потери, погибели. И именно Зальцману, нервному и циничному, пришлось и удалось первому в блокадной поэзии описать работу приближения и расширения страха, то, как он превращает человека в зверя, человеческий язык — в вой и рык. (Удивительно и полно горькой иронии, что Зальцман зарегистрировал это жуткое «ры-ры» как раз в то время, когда Ахматова написала свое программное, разительное «Мужество», при этом стеная и воя от ужаса бомбежек, по любезному свидетельству любезных очевидцев в подвале писательского дома на канале Грибоедова, что привело к необходимости удаления ее из города на юг. Когда «Мужество» внушалось блокадникам ее дивным голосом по радио, Ахматовой в городе уже не было, к горлу города уже подступало ры-ры.)
Так рождается зальцмановский Иов-псалмопевец. Важное: Зальцман начинает писать свои псалмы до блокады [2], вероятно, реагируя и ориентируясь на наблюдаемый им арестный Ленинград. Олейников уже испытан и убит, ушел в застенки Заболоцкий, скоро исчезнет Введенский, но Хармс еще мечется в отчаянии и изобретательно гамлетических попытках поддельного безумия. Продолжает писать Зальцман псалмы и после — в эвакуации, которая ему, как и многим, (п)оказалась долей ненамного слаще и гуще блокадной. Как уже было замечено, блокада практически не создала новых поэтических форм, но наполнила уже найденные своими новизной и невыносимостью, реализовала и проявила. Блокада доводит зальцмановского Иова до нового совершенства: он становится гротескным псалмопевцем-шутом. Перед нами письмо открытого гнева — не истерического, заказного, удобного, как в случае нанятых понятых совписов Эренбурга либо Симонова (в ушах звенит ведьминское falsetto: УБЕЙ), но гнева неподдельно чистого, лишенного прагматики. Гнев становится вечным двигателем поэтической системы Зальцмана. Именно как Иов он пишет свои вопли-псалмы и свои гротескные оды, оды желания-отвращения. При этом Зальцман — поэт глубоко формальный, и его Иов как прием есть форма вопля, хорошо организованного:
Нет, не знаю я Иова и других.
Я и сам живу,
Я и сам Иов.
Я не воскресал, как Лазарь,
И Бог мне не отец.
Я, как он, из гроба не вылазил
И до сих пор мертвец.
Зальцман, как и Гор и Дмитрий Максимов, пишет блокадный опыт с позиции дистрофика, то есть с позиции не-языка, не-членораздельности. Их дистрофик — собрат шаламовского доходяги и мусульманина Примо Леви, они пишут не заумь, но неумь, вопль-распад языка и смысла. Зальцман пишет отвращение и отвращением, пишет свое ры-ры, то есть внутренний мир дистрофика, но также и его внешний мир, где властвуют блокадные воры, проститутки и их преступная, недоступная еда. То, что дистрофик видит внутри и вовне, ему равно чудовищно, при этом отвращение снимается, перемещается с издающего текст на внешнее, себе внеположное, на блокадные realia; мы можем предполагать, что такой перенос приносил облегчение, способность дышать, то есть — (в)дохновение.
Зальцмановская пародическая ода следует за издевательскими одами Николая Олейникова, идеального поэта младоформалистов, чем и привлеклась к нему Лидия Гинзбург, а не только терпкой и темной силой так называемого гения, от которой так досталось современникам. (При воспоминании об олейниковском демоне Шварц бледнел и закашливался, руки его тряслись пуще прежнего.) Олейников был воплощением формалистической веселой науки, идеальным поэтом, которого остроумцам двадцатых, остро нуждавшимся в практической реализации своих идей, следовало бы выдумать, если бы его не существовало. Блокадная пародическая ода Зальцмана, в которой направление, вектор обращения скопированы с олейниковских (кажется, что говорящий восхваляет, — но нет, совсем не то), притворяется обращенной вверх, к тому, что не дается и не дает, к блокадным табу — еде и (сытой) женщине.
Как мы теперь знаем, можем знать (хотя все еще не особо хотим знать), блокадный город был полон вкусной еды и прекрасных сытых женщин, презреннейших тварей. Их победоносное отвратительное существование было постоянной мукой, упреком для людей без, вне тела. Процветал черный рынок, расцветали при власти-преступлении блокадные форнарины, прелестные булочницы всех сортов, сосуществуя с тысячами и тысячами обреченных двумя рифмующимися государственными Левиафанами на самую страшную, несовременную форму исчезновения — долгую голодную смерть. Сталкиваться с другим блокадным городом, городом сытых тварей, блокаднику-доходяге приходилось постоянно, как говорится, на каждом шагу. (Блокадные шаги особые — на счет, иногда не сбиться в этом счете дистрофику помогали не/деликатно виднеющиеся из-под снега недошедшие — до него.)
Вот, наверное, центральный, собирающий смыслы в пучок блокадный текст Зальцмана:
Презреннейшие твари
В награбленных шелках
По подвалам куховарят
На высоких каблуках.
Эти твари красят губы
Над коровьим языком,
Их невысохшие груди
Набухают молоком.
Сам огонь в их плитах служит,
Усердствуя, как пес,
Он их сковороды лижет,
Сокровенные от нас.
Нас томит у их порога
Страшный запах каши,
Мы клянем себя и Бога
И просим, просим кушать.
Нет желания сильней,
Чтоб сбыть им наши вещи,
И мы следим за их спиной
В ожиданьи пищи.
Иов, блокадное лирическое «я» Зальцмана, отказывается воспринимать себя как жертву. Его задача — не принимать страдания, навязанного ему, отказываться от страдательного залога apriori. Но и активничать тут особо не поактивничаешь, каких бы гигантских масштабов призывы к подвигу ни были намалеваны на фанерных щитах поверх руин на улице Пестеля и площади Толстого. Дистрофик не может издать ничего, кроме плохо связанных (между собой и со смыслом) звуков. Действие Иова — в самом акте крика, в несогласии считать(ся) с тишиной, в несогласии считаться бесконечно малой величиной, вообще никем. Этот Иов — единственный, кто понимает, подмечает, что происходящее вокруг него чудовищно. То есть буквально мир вокруг вдруг стал населен чудовищами — это наблюдение, что блокадный мир порождает только чудовищ, категорически противоречит пользующейся некоторой популярностью среди моих собеседников утешительной идее о том, что блокада могла и улучшать род человеческий, производить идеализирующую, нас возвышающую селекцию.
Блокадные слова Зальцмана — это критическое исследование навязываемой обстоятельствами страдательной позиции, сочетание ее с издевательским гротеском, действием гротеска, ответственностью гротеска. У дистрофа свои возможности: презирать, ненавидеть, испытывать и вызывать гнев и отвращение. Примешайте сюда еще желание — ну, допустим, желание не смерти. Желание жизни, направленное на тех, кто наслаждается жизнью посреди смерти. Желание как форма зависти гибнущих к негибнущим. И Зальцман, и Гор, и Максимов используют эрос в своем блокадном письме для уплотнения, насыщения палитры ужаса: и пища, и твари при пище — предметы желания-отвращения. Вот, например, один из самых причудливых текстов блокадного голода, провоцирующий своим намеренным эстетизмом:
Золотой, высокопробный лещ,
Вознесенный над голодным миром,
Это ювелирнейшая вещь,
Налитая до краев бесценным жиром!..
Возношу к тебе мольбы и лесть.
Плавающий над погибшим миром,
Научи меня, копченый лещ,
Как мне стать счастливым вором <…>
Все в этом тексте прельщает и отвращает одновременно, все смущает. Насколько реален этот лещ? Где мог он попасть на глаза Зальцману — или был он поэтом представлен, воображен, этот лещ, эта прекрасная воровская жратва явилась как готический призрак? Блокадный мир, хаотический блокадный порядок были настолько причудливы, что лещ этот мог всплыть где угодно: и в темном, пустом магазине по случаю, и в воровской норе, и в дружеской квартире — вдруг пришла посылка с Большой земли. Еды в городе, конечно, не было, но еда в городе, конечно, была, и это присутствие/отсутствие воспринималось голодающими как мираж, как вещь красоты: именно так пишет еду Зальцман.
В своем разительном блокадном дневнике Татьяна Глебова записывает: «Вид продуктов удивительно красив... Я начинаю беситься во время еды. Пока не ем, все забываю и чувствую себя по-человечески, а как начну есть, становится очень трудно... Прежде я никогда не чувствовала вкуса к тому, чтобы писать натюрморты, вчера, когда стояла в очереди за прикреплением, рядом выдавали сливочное масло и сыр. Я поняла зрительную красоту этих вещей, и теперь натюрморт открыт для меня ключом голода» [3]. Они пытались преодолеть физиологию, саму смерть ключом зрения, ключом красоты.
Любопытно, что при этом мы не знаем ни у Зальцмана, ни у Глебовой блокадных натюрмортов, но находим другой вид мертвой натуры: Глебова пишет с натуры умирание отца, а Зальцман многими десятилетиями потом изображает лежащий в руинах бесплотный город, город-сон. Таким образом, натюрмортом следует считать издевательскую оду лещу, но особым натюрмортом-экфрасисом. Зальцман пишет то, что видит как художник, то, что чувствует как дистрофик. К обычным задачам и возможностям зальцмановский Иов присоединяет желание верить — и не прощать:
Сам ты, Боже, наполняешь
Нечистотами свой храм-с,
Сам ты, Боже, убиваешь
Таких, как Филонов и Хармс.
Когда я думаю о блокадном сопротивлении, вообще о способности сопротивляться блокаде, я думаю об этой рифме. Для блокадного текста она даже вроде бы и рифма-чересчур, фривольное шутовское коленце, салют прощания с Хармсом и всем, что его мир значил для Зальцмана и его круга: с Богом, со свободой, с городом, с собой.
[1] П. Зальцман. Осколки разбитого вдребезги. Дневники и воспоминания. 1925–1955. — М.: 2017. Здесь и далее ссылки на это издание будут даваться в тексте в скобках.
[2] См. посвященный ему сайт.
[3] Т. Глебова. Рисовать как летописец (страницы блокадного дневника) / Публ. и коммент. Л.Н. Глебовой; предисл. и подгот. текста В. Перца // Искусство Ленинграда. 1990. № 1. С. 39.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Современная музыка
Современная музыкаЛидер «Центра» и лидер «Телевизора» выступают против бешенства коллективного иммунитета
19 ноября 20211554 Современная музыка
Современная музыкаНовый альбом «ДДТ», возвращения Oxxxymiron и Ёлки, композиторский джаз Игоря Яковенко и другие примечательные альбомы месяца
18 ноября 2021197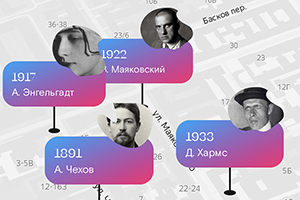 Театр
Театр Общество
ОбществоО чем напоминает власти «Мемориал»* и о чем ей хотелось бы как можно быстрее забыть. Текст Ксении Лученко
18 ноября 2021199 Кино
Кино Театр
Театр Литература
Литература Colta Specials
Colta SpecialsЭбба Витт-Браттстрём об одном из самых значительных писательских и личных союзов в шведской литературе ХХ века
16 ноября 2021221 Colta Specials
Colta SpecialsПеред лекцией в Москве известная шведская писательница, филолог и феминистка рассказала Кате Рунов про свою долгую связь с Россией
16 ноября 2021183 Академическая музыка
Академическая музыка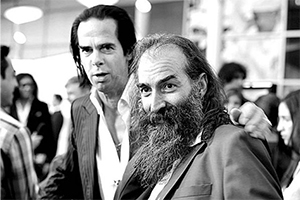 Современная музыка
Современная музыкаВ книге «Жвачка Нины Симон» Уоррен Эллис, многолетний соратник Ника Кейва, — о ностальгии, любви, спасительном мусоре и содержании своего дипломата
16 ноября 2021178 Академическая музыка
Академическая музыка