 Современная музыка
Современная музыкаКатя Павлова: «Благо переживания мои стали более зрелыми»
Лидер «Обе две» — о новом альбоме «Мне это не подходит», песнях как способе психотерапии и инициации «Уралмашем»
10 декабря 20211979
Пианист и композитор Петр Айду поражает своими музыкальными умениями и кругозором. Он — знаток старинной и современной музыки, специалист по самым диковинным инструментам всех мастей, музыкальный археолог, воскрешающий забытые редкости и ценности — от оркестра без дирижера «Персимфанс» до шумовых машин 1920-х, за симфонию для которых он недавно получил «Золотую маску» в номинации «Эксперимент». На этой неделе Петр Айду снова удивит разносторонностью своих интересов: 24 мая в Российской государственной библиотеке в рамках проекта Sound Up он впервые в Москве исполнит фортепианные прелюдии Игоря Вдовина, а 26 мая проведет необычную лекцию о механическом пианино.
Денис Бояринов встретился с деятельным музыкантом и поговорил о его музыкальной биографии, новых проектах, старинной музыке и портрете Михаила Глинки.
— Когда вы начались как музыкант?
— Я очень плавно в музыку въезжал из не очень сознательного возраста. Я учился в ЦМШ и уже в 6 лет ходил в подготовительный класс.
— В ЦМШ вы попали, потому что вы из музыкальной семьи?
— Потому что у меня мама преподавала там всю жизнь. Дедушка мой тоже преподавал. Это традиция. Можно сказать, что это был путь наименьшего сопротивления. Если бы меня готовили на мехмат — это было бы труднее.
— А то, что ЦМШ — это огромное количество часов за роялем, да еще и в такие ветреные годы, когда сидеть за инструментом совсем не хочется?
— В детстве у меня был покладистый характер. Мои музыкальные занятия происходили без насилия. Мама говорила: ну пойдем поиграем. Потом говорила: ну пойдем теперь чаю попьем. И без особенных амбиций — не надо было играть быстрее, громче, побеждать на конкурсах. В семье было интеллигентское воспитание, что скромность превыше всего. Все происходило гармонично. Понятно, что когда все комфортно и мягко, трудно чего-то добиться. Тогда наступали этапы некомфорта — когда надо что-то в себе преодолеть, перейти на новый уровень. Таких было несколько. Один из них — когда у меня появилась новая учительница, которая очень активно за меня взялась, — Фарида Ибрагимовна Нуризаде. Она очень сильно меня сдвинула, выведя из зоны комфорта. Мы с ней до сих пор очень дружим.
Должен сказать, что школу я не любил и не люблю до сих пор. Несмотря на традиции.
Следующий этап своей жизни я посвятил опровержению идеи о том, что неважно, на каком рояле играть.
— Почему? Там не так учат?
— Да. В целом направленность этого заведения такова: это амбициозность, но не связанная с искусством, а связанная с достижением формальных, «спортивных» моментов. Собственно, музыкой там очень мало занимались. Главная направленность — освоение техники игры на инструменте, добывание премий на конкурсах через агрессивную исполнительскую манеру. Этим всегда отличались советские пианисты на международных конкурсах: «За нами Москва, мы не отступим ни на шаг». Но ведь когда Шопен писал свою музыку, у него было другое ощущение.
Это не значит, что все так играют и все так учат, но общее направление — не трать время на ерунду, сиди и дрочи свой инструмент. Уровень был крутой, конечно, — я называю это «фортепьянным спецназом». Сыграть могли что угодно — в пределах академического стандарта. Но что играть, для чего и что такое вообще музыка — этому не уделяли внимания. Я никогда не мог понять своих одноклассников, которым, как правило, совершенно было неинтересно обсуждать предмет своей профессии. Хотя говорят, что это свойство моего поколения, что раньше было по-другому. Когда моя бабушка училась в консерватории, несмотря на то что они жили в коммунальной квартире, ее сверстники собирались — играли, читали с листа, слушали, обсуждали музыку. Такого никогда не было в ЦМШ, когда я учился. И сейчас нет — я там был недавно. Я не понимаю, зачем я начал критиковать свою альма-матер, а ведь там мой портрет где-то висит.
— Тем не менее международная премия у вас есть — Гран-при юношеского конкурса в Цинциннати, 1991 год. Это круто?
— Это было круто, конечно. Мне было 14 лет, и вот моя учительница Фарида Ибрагимовна неожиданно отправила меня, скромного мальчика, на конкурс в Америку, что уже было размашистым жестом. А я неожиданным образом там всех победил — ну так получилось.
Не очень понятно, как учить композиторству.
— А что играли?
— Да все, что положено было. Помню, что играл концерт Грига для фортепиано с оркестром. Но оркестра никакого не было, а был аккомпанемент на втором рояле — довольно жуткий. Однако, поскольку в ЦМШ готовили к чему угодно — Цинциннати или Южно-Сахалинск, настроен рояль или не настроен, нажимаются на нем клавиши или нет, — для ученика ЦМШ это было неважно. Следующий этап своей жизни я посвятил опровержению идеи о том, что неважно, на каком рояле играть.
— Когда вам стало понятно, что вам неинтересен стандартный путь пианиста-солиста — конкурсы, победы, гастроли?
— Не факт, что мне бы это удалось. После того как я получил эту премию, я стал попадать в разные концерты — Большой зал консерватории, еще куда-то. Началась реакция на премию, которую я проигнорировал. Мне казалось, что нечего играть одно и то же на концертах. Это были иллюзии, которые скрывали лень, — на самом деле играть каждую неделю по концерту мне было непривычно. Я был репертуарно и морально не готов. Не готов к успеху.
Еще другой момент — я тогда начал заниматься сочинением музыки. У меня появился учитель Григорий Иванович Шатковский — настоящий аутсайдер, открыто критиковавший советскую музыкальную педагогическую систему и предлагавший ей альтернативу. За что его отовсюду выгнали — и он, лучший музыкальный педагог из тех, кого я встречал, работал бог знает где. Под его влиянием я стал заниматься сочинением музыки — на детском уровне, но я уже понял, что не быть мне человеком, только играющим чужую музыку.
Петр Айду — «Сатаническая поэма» А.Н. Скрябина
— Но в консерваторию вы пошли все же учиться на пианиста, а не на композитора.
— Это то, к чему я был подготовлен. После истории с Цинциннати Фарида Ибрагимовна сделала жест еще более размашистый — она решила подготовить меня к конкурсу Чайковского. В 1994 году — причем это был юбилейный, X конкурс. Я прошел во второй тур. Как раз в этом году я поступал в консерваторию и, естественно, был очень хорошо подготовлен. Как только я поступил в консерваторию, я сразу стал проситься на композиторский факультет, на который меня в конце концов взяли. Я там проучился год — и ушел оттуда.
— Почему ушли?
— Я до сих пор склоняюсь к тому, что не очень понятно, как учить композиторству. У меня были замечательные педагоги: Юрий Буцко (преподавал инструментовку), профессор Воронцов, с которым мне было очень интересно и приятно общаться. Но я не понял, что там делать и чем там заниматься, кроме того что проходить огромное количество теоретических дисциплин, которые очень интересны, но современному композитору, зарабатывающему своим ремеслом деньги, они вообще не нужны. Большинство людей не определят, изучал ли композитор гармонию с полифонией и есть ли в его сочинениях параллельные квинты. С другой стороны, не так важно, что люди понимают про музыку, — важно самому понимать.
Я не отказался от идеи делать свою музыку. Но решил, что мне нужно найти свой язык и свою территорию. Нашел я ее только пару лет назад.
— Когда у вас случился поворот к историческому исполнительству?
— В консерватории я узнал, что существуют параллельные миры в той музыке, в которой я воспитан и которую люблю. Меня всегда интересовали разные музыкальные инструменты — старинные и современные. Но после 10-летней учебы в ЦМШ — и это показательно — мои представления о музыке барокко были такие: весь мир был погружен во мрак, и вот появился Иоганн Себастьян Бах и наконец-то написал хорошую музыку. На полном серьезе! Я вас уверяю, что многие выпускники консерватории, до аспирантуры доучившись, продолжают верить в такую мифологию.
В консерватории я многому научился — всюду ходил, многое узнал по поводу старинной музыки и современной. Пошел учиться играть на органе — это была такая детская мечта, пошел учиться на курс звукорежиссуры, потому что мне было важно понять, как это работает. Мне было важно восполнить свои недознания.
Я попал под большое влияние исторического исполнительства, потому что на тот момент оно было явно передовым и включало в себя много новых возможностей. Давало больше свободы. В академическом исполнительстве есть очень много табу, которые непонятны — вот принято так играть на конкурсах, и все тут. Люди, имеющие опыт исторически информированного исполнительства, привыкли анализировать, что они делают, и пытаться выяснить, что можно, а что нельзя. Выясняется, что есть масса вариантов. Я, кстати, был первым аспирантом на факультете исторического исполнительства в консерватории.
Старинная музыка радикальнее любого самого смелого авангарда.
— Почему случился взлет интереса к аутентичному исполнительству и старинной музыке и что с этим интересом происходит сейчас?
— Я могу объяснить этот интерес исходя из того, что испытывал сам. Все знают музыку Баха и Моцарта — она была настолько стандартизована, что было удивительно вдруг выяснить, что она звучала совершенно иначе. И очень интересно, как именно иначе. Вслед за этим открывается огромное количество музыки, которая вообще была не востребована — хотя бы потому, что, исполняя ее в романтической традиции, ее совершенно невозможно понять. Музыка Баха была реконструирована в эпоху романтизма, и мы ее с детства в таком виде воспринимали. Услышать ее в другом виде равносильно чему-то абсолютно новому. Старинная музыка — одно из самых радикальных достижений современного искусства, радикальнее любого самого смелого авангарда. Слово «старинная» сбивает с толку, а на самом деле в ее основе — модернистская идея искусственного реконструирования, да и результаты очень неожиданные: все начинает звучать по-новому, возникают параллельные времена. В ней был революционный задор. Даже когда я учился в консерватории, аутентичное исполнительство и интерес к клавесину были крамолой. Старым педагогам это казалось издевательством над чем-то священным. Зачем Баха играть на полтона ниже, в два раза быстрее, с какими-то ужимками и прыжками? Сейчас это направление, можно сказать, победило. Сейчас Баха услышать в романтической манере — это нечто особенное.
При этом мне кажется, что волна интереса к историческому исполнительству, которая поднялась в 1990-х, сейчас куда-то тихо схлынула, оставив после себя немного следов. Ну вот факультет в консерватории появился, была куплена пара старинных инструментов… И все — у нас не прижились ни барочные оркестры, ни ансамбли средневековой и ренессансной музыки. Хотя мне казалось, что российская публика хорошо воспринимает старинную музыку. Мы продолжаем играть старинную музыку, барочные концерты случаются, но это превратилось в любительство и подполье. Мало кто может заниматься историческим исполнительством и зарабатывать себе на хлеб.
— Когда вы начали самостоятельно заниматься реконструкциями — с воссоздания «Персимфанса»?
— «Персимфанс» — это не реконструкция, это попытка продолжить дело, начатое до нас. «Персимфанс» — настолько мощное явление, что надо было просто взять и продолжить работу его создателей. В XXI веке их идеи стали еще более актуальными, понятными и очевидными. Мне кажется, что в 1920-е годы «Персимфанс» был менее понятен, чем сейчас. Хотя история у оркестра без дирижера была очень славная, и ее нарочито исключили из истории советской музыки, как многие культурные и научные явления в сталинскую эпоху.
Когда я прочитал книгу про «Персимфанс», я был очень впечатлен тем, как это все происходило. Я находился в поиске новой формы музицирования и решил, что надо его продолжать. «Персимфанс» должен существовать, как существуют Большой театр и консерватория. Это такое же достижение нашей культуры, причем аналогов ему не существовало нигде в мире. Тем более что «Персимфанс» — это наше все, московское. Он находился на территории консерватории, основной его базой был Большой зал. Люди, которые сделали «Персимфанс», были или стали ведущими профессорами Московской консерватории.
«Персимфанс»
— Что сейчас происходит с «Персимфансом»?
— «Персимфанс», к сожалению, не имеет постоянной формы существования или официального статуса. А с 2008 года существует в виде партизанской группы, которая иногда вылезает из леса и устраивает какие-то акции. Сейчас мы планируем сыграть 3 октября концерт в Большом зале консерватории — впервые с 1932 года на своей родной базе.
— Расскажите о том, как дела обстоят у другого вашего проекта — «Приют роялей». На Planeta.ru объявлена новая акция — лекция об истории механического пианино. Как она возникла?
— Она появилась из сотрудничества с организатором Музея исторической кинотехники Александром Зениным. Он является единственным у нас специалистом по механическим музыкальным инструментам — главным образом по пианолам и фонолам. Мы с ним познакомились и подружились, так и возникла эта акция.
У меня уже много лет стоит механическое американское пианино. Александр Зенин его восстановил. Пианолы — это целая эпоха в истории звукозаписи, которая закончилась в 1930-е годы, а в Америке просуществовала немного дольше. Вживую механическое пианино не услышишь ни в музее Глинки, ни в консерватории. Из консерватории в свое время выкинули несколько сотен валиков для механического фортепиано, их нигде нельзя услышать. Мы постарались этот пробел восполнить: 26 мая люди могут прийти на лекцию с публичным показом инструмента и послушать, как он работает.
«Персимфанс» должен существовать, как существуют Большой театр и консерватория.
— Какие записи будете включать?
— Их огромное количество. У Саши — несколько тысяч валиков в коллекции, у меня — пара сотен. Найдем что послушать. Не говоря уже о том, что у нас есть технология создания валиков. Саша из подручных материалов собрал прибор, который «пробивает» midi-файл на бумаге. Мы сделали для себя один проект. Я написал музыку к первому фильму братьев Люмьер, а Саша пробил его на перфоленте для пианолы, и мы сделали показ фильма с моей музыкой, сыгранной на пианоле. Именно для этого пианолы и использовали на заре кинематографии. Я почувствовал себя первым кинокомпозитором (смеется)!
— Коллекция «Приюта роялей» еще пополняется?
— Да, время от времени что-то падает. Появляются неизвестные артефакты фортепианостроения. Из последнего — странным образом ко мне приехал рояль, который находился в имении Льва Толстого. Не знаю, где он скитался, но последний год он провел в подъезде многоквартирного дома в Балашихе. На нем нацарапали свастику и взорвали внутри петарду под Новый год неизвестные балашихинские саунд-артисты.
— Он подлежит восстановлению?
— Разумеется, все подлежит восстановлению при желании и возможности. У нас просто нет возможностей, а желание — есть.
— Откуда взялась идея спектакля «Звуковые ландшафты», за который вы получили «Золотую маску», — тоже из «Персимфанса»?
— Да, если бы не было «Персимфанса», то не было бы и «Звуковых ландшафтов». Это вторая серьезная композиторская работа в моей жизни. Это музыкальное произведение, созданное по всем музыкальным законам. Там нет ничего сугубо театрального — ни текста, ни декораций. Поэтому, когда мне вручали «Маску», я сказал, что мне особенно приятно получить театральную премию за «нетеатр» и «неспектакль».
Петр Айду демонстрирует звуковые машины
— А первая какая была?
— Она называется «Трансформация звука», или «Трансформация шума». Она дважды исполнялась на фестивалях, поэтому меньше известна. Последний раз — на фестивале «Московская осень» при Союзе композиторов, куда ходит специфическая публика. А «Звуковые ландшафты» — главная моя работа за последнее время.
— После вручения «Золотой маски» состоялся небольшой скандал, который выявил два крыла в современной российской музыке — условно назовем их «традиционалисты» и «прогрессисты». Вы к какому себя относите?
— Я не вписываюсь в какую-то группу. Может, поэтому мне и дали «Золотую маску» — не знали, куда это отнести. То ли это рутинное, то ли прогрессивное искусство — и, на всякий случай, дали (смеется). У меня путь, который перпендикулярен и тем, и другим. И это выгодная позиция — я сделал что-то свое, что никуда не вписывается.
— Вы следите за тем, что делают ваши коллеги-композиторы, что играют на «Московской осени» и других фестивалях?
— У меня сейчас такой период, что я очень мало слушаю музыки. Он длится уже несколько лет и все никак не заканчивается. До этого я много музыки слушал — анализировал и искал, что мне нравится. Случались находки, которые я заслушивал до дыр. А сейчас другой период — я включу что-нибудь, начну слушать, и мне уже надоело. Зато теперь я по-другому стал воспринимать звуки. Мне интереснее теперь звуки, чем музыка. Особенно тот звук, который возникает не для того, чтобы сделать звук, — а как природное явление. Видимо, это результат работы над «Звуковыми ландшафтами». Без очищения невозможно было бы сделать эту работу.
— Вам интересно играть фортепианные прелюдии Игоря Вдовина?
— Чем больше я их играю, тем больше мне интересно. Так всегда бывает, потому что очень много смыслов в исполнении возникает в тонкостях, до которых удается добраться во время репетиций. Сейчас — за несколько дней до концерта — я до них уже начал добираться.
Дело в том, что я очень давно не играл и меня не использовали как пианиста. За исключением нескольких сочинений Павла Карманова. Я отвык, а теперь снова начал привыкать.
Мне интереснее теперь звуки, чем музыка.
— Сильно заметно, что Игорь Вдовин — композитор, не оканчивавший консерваторию, и мешает ли это ему?
— Мне — заметно. Но я вижу такую интересную тенденцию: люди, окончившие консерваторию и получившие право считать себя профессионалами (хотя профессионализм не в этом), комплексуют, что у них нет опыта игры в рок-группе, опыта работы с секвенсорами и прочей аппаратурой. А люди, которые не получили такого образования, но, на мой взгляд, и есть настоящие профессионалы (они делают реальные вещи, потому что это нужно), хотят зайти в мир консерватории. Игорь Вдовин написал цикл в сугубо академическом жанре, в котором никто из современных композиторов работать не станет. Это традиционнее, чем учат в консерватории. При этом он очень вдумчиво, хорошо и подробно написал текст. Вот, например, Карманов, который изучил на композиторском факультете все, что для этого было нужно, в этом отношении неаккуратен — у него в тексте много ошибок, 50 раз его нужно переспрашивать, что имелось в виду. А у Вдовина каждая нотка на месте. Мне кажется, это любопытный феномен — люди стремятся попасть туда, где они не находятся, и делают ради этого экстраординарные усилия. Написать 24 пьесы — это большой труд, это надо было постараться.
— А почему у вас портрет Глинки на стене висит?
— Я же считаю себя хранителем традиций. Этот портрет был выброшен на помойку из Гнесинской музыкальной школы. Его подобрали реквизиторы театра «Школа драматического искусства», где идут «Звуковые ландшафты». Я у них долго выпрашивал этот портрет — они не хотели его отдавать, и только когда я получил «Золотую маску», они решили его отдать. Поскольку я отдал «Маску» театру, то я считаю, что это — мой приз. Этот портрет Глинки был написан в 1948 году — знаменательном для советской музыки. У меня даже есть стенограмма знаменитого совещания 1948 года, тоже, кстати, найденная на помойке, возле Дома композиторов. Это очень интригующая книга, которую я прочитал с огромным интересом несколько раз. Поэтому этот портрет очень символичен для меня.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Современная музыка
Современная музыкаЛидер «Обе две» — о новом альбоме «Мне это не подходит», песнях как способе психотерапии и инициации «Уралмашем»
10 декабря 20211979 Искусство
ИскусствоЮлия Тихомирова размышляет о том, каким будет искусство для первого путинского поколения
10 декабря 2021232 Современная музыка
Современная музыка«Боже! Как я счастлив, что я не американец!»: аудиовизуальный арт-поп-проект от клипмейкеров-франкофилов
10 декабря 20211840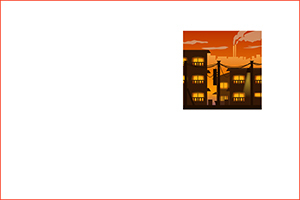 Молодая Россия
Молодая РоссияМолодой архитектор Антон Федин представляет себе мир, который весь целиком состоит из одного бесконечного города
10 декабря 20211357 Кино
КиноФархат Шарипов — о драме «18 килогерц», посвященной героиновой эпидемии в Казахстане 90-х
9 декабря 20213842 Литература
Литература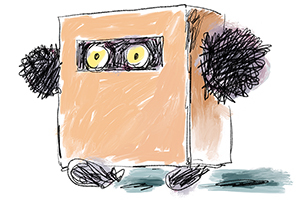 Colta Specials
Colta SpecialsСокураторы одноименной выставки в центре творческих индустрий «Фабрика» Мария Линд и Андйеас Эйикссон рассказывают о ее концепции
9 декабря 2021217 Современная музыка
Современная музыкаЛеонид Федоров выпускает сольный альбом «Последний друг» и рассказывает о нем и о «осовковлении мира»
9 декабря 20211891 Общество
ОбществоАлександр Кустарев о том, каким путем ближе всего подобраться к новой форме демократии — делиберативной, то есть совещательной, чтобы сменить уставшую от себя партийно-представительную
8 декабря 20211845 Литература
Литература Академическая музыка
Академическая музыка Кино
Кино