 Современная музыка
Современная музыкаDvanov. «Гиперпустырь»
Городские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы
25 ноября 20211599 © Pikist
© Pikist«Вам придется быть внимательнее с супом. Жевать и пить нужно будет очень осторожно. Не шевелитесь, Ваше Величество. И это не долгосрочное решение». Придворный врач наклоняется над Елизаветой II и вводит ей мышечный релаксант. У королевы спазм лицевого нерва: ежедневно приветствуя подданных, она несколько раз в день растягивает губы в улыбке и грациозно поворачивает голову в шляпке. Теперь левая щека окаменела, королеве больно, ей нужен покой, а самое главное — нужно перестать улыбаться. Но это исключено. «У меня такая внешность, что без улыбки у меня сразу становится злобный вид», — говорит королева и грустно смотрит на врача.
Этот эпизод из биографии Елизаветы II — описанный в книге ее биографа Ингрид Сьюард и знакомый многим по сериалу «Корона» — лучшая иллюстрация к явлению, которое принято называть эмоциональным трудом, то есть — профессионализированным управлением своими эмоциями и способами их выражения. Сегодня этим трудом заняты далеко не только монархи: водитель «Убера» поинтересуется, комфортна ли для пассажира температура в салоне; операционистка Сбербанка с первого раза запомнит имя и отчество клиента; корпоративный HR пришлет сотруднику шкалу для оценки его настроения. Еще никогда, кажется, о наших эмоциях так не заботились другие — и еще никогда мы так не заботились об эмоциях других.
Почти сорок лет назад, в 1983 году, Арли Рассел Хохшильд, автор классического труда «The Managed Heart», отмечала, что примерно треть людей на американском рынке занятости работает в сфере, требующей от них существенных усилий по исполнению эмоционального труда. Среди женщин эта доля была еще выше: по подсчетам Хохшильд — как минимум половина. Менеджеры по продажам, парикмахеры, телеграфисты, учителя, страховые агенты, врачи — и, конечно, стюардессы, за чьей деятельностью Хохшильд наблюдала несколько лет, — непрерывно были заняты тем, чтобы управлять своими и чужими эмоциями: создавать у клиентов хорошее настроение, доставлять им радость. Другие же — например, налоговые инспекторы, аудиторы или полицейские, — наоборот, прилагали усилия к тому, чтобы намеренно вызвать у своих визави тревогу или даже страх.
В 2012 году в предисловии к переизданию книги Хохшильд констатировала, что в развитых западных странах за прошедшие 30 лет эмоциональный труд стал еще более повсеместным, поскольку рынок услуг все сильнее вытеснял рынок производства. А в сфере услуг с кислой миной далеко не уедешь. «За станком вы можете стоять злой и обиженный, — говорит в интервью «Медузе» социолог Элла Панеях. — Злость и обида даже помогут вам, если вам нужно, например, поколоть дрова. Но когда вам надо писать код или стоять за барной стойкой, на каждой чашечке капучино рисовать цветочек и при этом вести приятный разговор, а вокруг все такие чувствительные и на малейшее хамство среагируют, то вам это делать в расстроенных чувствах несподручно».
Трансформация трудовых практик (или даже рабочей морали), которую описывает Панеях, характерна и для постсоветского пространства: здесь эмоциональный труд тоже стал обязательным soft skill в самых разных областях. Это неудивительно: рынок услуг растет тут еще быстрее и принимает еще более неконтролируемые формы, чем на Западе. С 1990 по 2013 год его доля в России увеличилась втрое — с 32,6% до 69%. По данным Всемирного банка, в 2019 году 67% трудоспособного населения России были заняты именно в секторе услуг. Таким образом, заработок более чем двух третей населения страны напрямую зависит от того, насколько успешно они сумеют «вести приятный разговор», параллельно осуществляя свои непосредственные профессиональные обязанности.
Тон меняется не только в коммерческих компаниях, но и в казенных домах: и они, еще недавно отпугивавшие граждан обеденными перерывами, проветриваниями, очередями и запахом половой тряпки, заговорили языком «заботы о клиенте», «счастья» и «благополучия». Кроме того, государство и его аватары (Сбербанк, «Госуслуги», «РЖД») прекрасно научились производить так называемые happy objects — коммерческие продукты, призванные, по определению феминистской исследовательницы Сары Ахмед, вызвать ощущение счастья или его предвкушение: жизнерадостные приложения для смартфонов, маркетинговые сувениры, выполненные в радостных тонах материалы.
«Если 10–12 лет назад в фокусе внимания управленцев были компетенции по достижению результата, то сейчас наряду с ними на первый план выходят отношения и умение взаимодействовать», — говорит Вера Кузнецова [1], специалист по психологии управления, руководитель подразделения в крупной государственной компании. При этом основные задачи, так или иначе связанные с управлением чувствами коллектива или клиентов, как правило, ложатся на исполнителей среднего и низшего звена — то есть на самую широкую прослойку сотрудников.
Наконец, сфера производства так называемых обобществленных благ — здравоохранения и образования — в России, как и во всем мире, тоже «оптимизируется» под сферу услуг. Врачи, медсестры, учителя, университетские профессора уже больше не эксперты на службе у государства, а предприниматели в борьбе за эффективность своего труда. В поликлиниках и университетах от сотрудников все чаще требуется «заботливое», едва ли не терапевтическое отношение к «клиентам» — именно они приходят на смену «пациентам», «ученикам» и «студентам».
Вспоминая тренинги по продаже в середине девяностых, Евгений Креславский, консультант по организационному развитию, автор книги «Кляксы на рабочем столе», говорит: «Когда мы разговаривали с продавцами, для них улыбнуться партнеру было проблемой. Они говорили: он еще ничего не купил, что ему улыбаться. И мы показывали им, что улыбка — это просто знак доброжелательного отношения, уважения. Потом это стало нормой: оказалось, что доброжелательное отношение — оно выгодно. Ты продаешь. Значит, ты сам получил и гонорар, и внутреннее удовлетворение от того, что ты сделал». «Новая экономика требует доброты, — резюмирует Панеях. — Психологический комфорт, на котором все сейчас так помешаны, повышает производительность труда».
Добро пожаловать в дивный добрый новый мир? Может быть — но не так быстро и с гораздо большими издержками, чем хотелось бы. Рискуя испортить настроение себе и читателям, я приму на себя — вслед за Сарой Ахмед — невыгодную роль kill joy, кайфоломщицы, вечно ищущей на обещаниях «счастья для всех и даром» хорошо припрятанный ценник. Я позволю себе перестать улыбаться и задам наивный вопрос: действительно ли массовое внедрение эмоционального труда и институционализированной заботы делает общество «добрее»? Стало ли нам жить лучше, стало ли нам жить веселее?
* * *
На первый взгляд — конечно, да. Сама западная цивилизация, по мнению социолога Норберта Элиаса, — это результат постоянно усложняющегося и развивающегося контроля над эмоциями. Преодолеть состояние войны всех против всех оказывается возможным только за счет подавления аффектов. Просто так взять и полюбить ближнего у человека не очень получается: ближний неправильно пахнет, неправильно ест, неправильно молится. «Принуждение» к тому, что Арли Хохшильд называет «поверхностным исполнением» чувств, — то есть к вежливой улыбке и обходительным формулировкам — позволяет нам как минимум не угробить друг друга при первом же «дай закурить». И как максимум — создавать интерфейс равенства, «штопать» социальную ткань в тех местах, где она тонка и рвется. Английская писательница Рейчел Каск в своем эссе о смысле вежливости пишет: «Хамство в чем-то подобно публичной наготе, к которой одетым согражданам стоит отнестись со снисхождением и тактом. Оставаясь вежливыми с грубиянами, мы имеем шанс вернуть им их же собственное достоинство».
Однако индивидуального усилия недостаточно. Чтобы война всех против всех сменилась общественным договором, любовь к ближнему должна быть переведена в устойчивые правовые нормы — в Декларацию прав человека, Трудовой кодекс, конституцию, к которой невозможно приписать на пеньке похабную виньетку. Закон не интересуется, любишь ли ты ближнего, он просто настаивает на том, что придется брать его на работу, отчислять в его пользу налоги и платить штраф за вмятину на его машине.
Проблема кайфоломщицы вовсе не в том, что улыбки сделались слишком дежурными. Она в другом: сегодня, когда мы во всем мире наблюдаем распад рынков труда, рост неравенства, эрозию самых разных правовых норм, улыбка добросовестного гражданина повисает в вакууме — как у Чеширского Кота. Как пел классик, «я ушел от закона, но так и не дошел до любви». И место, куда мы попали, далеко не так прекрасно, как хотелось бы.
* * *
Повсеместное внедрение институционализированной заботы антрополог Юля Лернер называет «эмоционализацией публичной сферы» — но, в отличие от Эллы Панеях, не считает ее синонимом «доброты». Скорее, для Лернер это симптом «нового витка эмоционального консюмеризма».
Вместе с другими израильскими исследовательницами — Марией Грецки, Клавдией Збенович и Тамар Кане-Шалит — Лернер изучает эмоционализацию на примере академического труда. В современном университете получение образования — это уже не только передача знания «сверху вниз», но и услуга, встроенная в формат «личных отношений».
Изучая трансформацию академического труда в США, Израиле и России [2], исследовательницы приходят к выводу: где бы ты ни находился, преподавание во многом превратилось в практику заботы, наставничества и «проговаривания» эмоций студентов. По словам опрошенных профессоров, студенты не только «требуют от преподавателей эмоционального комфорта в коммуникации», но и делятся с ними соображениями своих психотерапевтов по поводу того, в какой атмосфере и в каком темпе им следует учиться. Но как исполнять роль наставника, если критерии «психологического комфорта» постоянно меняются? А главное — как должна выглядеть критика, если она по умолчанию создает «дискомфорт»? Например, как ставить оценки — за результат или за «старания»?
«Представление о том, что “хорошее” высшее образование непременно должно быть эмоционально наполненным, спускается “сверху” университетским руководством и затем внедряется горизонтально», — отмечают Лернер, Збенович и Кане-Шалит. «Преподаватель сегодня — это странный гибрид, смесь госчиновника и тренера личностного роста», — говорит один из опрошенных московских профессоров, кажется, не вполне удовлетворенный своей новой ролью. Зажатый между двумя логиками — бюрократии и сервисной экономики, — этот академический кентавр испытывает непривычную для себя растерянность.
Сомнения и амбивалентность связаны далеко не только с тем, что взгляды многих профессоров (о'кей, бумер!) попросту устарели. Эмоциональное содержание педагогической работы — например, «увлекательность» или «занудность» курсов, «эмпатичность» самих преподавателей — напрямую связано с оценкой качества их работы в целом и, соответственно, с продолжительностью их контрактов и с заработком. Сложность в том, что, обязанный — как этически, так и бюрократически — взаимодействовать со студентами чутко и эмпатично, сам преподаватель, с одной стороны, находится в жестких вертикальных отношениях власти со своим начальством, а с другой — полностью уязвим перед рынком труда, на котором все меньше постоянных контрактов и возможностей для роста.
* * *
В частных компаниях — похожие процессы: здесь тоже тонкий ледок «заботы» о сотрудниках и клиентах прикрывает зияющую пустоту на месте социальных гарантий и трудовых прав.
Благополучие (или well-being) сотрудников — одна из главных статей расходов в бюджете многих работодателей как в России, так и во всем мире. «Крупные компании заинтересованы в том, чтобы сотрудники чувствовали себя защищенными. Под well-being понимается не только здоровье, но и целый комплекс факторов: финансовое благополучие, медицинское страхование для сотрудника и его семьи, оплата занятий спортом, участие в экологических и благотворительных программах, мероприятия для детей сотрудников», — говорит Вера Кузнецова.
Казалось бы — сплошной win-win. Но кайфоломщицу так просто не убедишь: отношения найма, маскирующиеся под отношения «любви», вызывают у нее подозрение. Как получилось, что «медицинское страхование, оплата занятий спортом, мероприятия для детей» из компонентов скучного понятия «социальная защита» превратились в инструмент создания «радостной атмосферы» на предприятии? Как и когда место Шурочки из профкома занял «менеджер по счастью»?
Ответ на этот вопрос лежит в нынешнем представлении о работнике как о субъекте трудовых отношений — и о том, что входит сегодня в само понятие «труд».
* * *
Британский исследователь и журналист Уильям Дэвис, автор книги «The Happiness Industry», отмечает: в условиях классического индустриального капитализма рабочие вкладывали в труд свою физическую силу и, вне всякого сомнения, подвергались эксплуатации. Однако никому не приходило в голову требовать от них более «личного», «эмоционального» участия.
Отчужденный от продукта своего труда, лирический герой «Капитала» шел с фабрики домой, чтобы завалиться спать, сходить в баню, напиться — или, наконец, отправиться в подпольный марксистский кружок. На следующий день он действительно мог «стоять за станком злой»: на протекающую крышу в съемной комнате, на 12-часовой рабочий день, на почерневший нарыв на руке.
Сегодняшний наемный работник — чаще всего не «синий», а «белый воротничок» — таких вольностей себе и вправду позволить не может: ему необходимо не просто симулировать, а чувствовать энтузиазм и душевный подъем. «Любовь» к своей деятельности, к своим коллегам и клиентам — это необходимое условие для выполнения работы. Говоря словами Арли Хохшильд, на рынке труда требуется не «поверхностное», а «глубокое» исполнение эмоций — то есть сознательное внушение себе чувств, целенаправленное введение себя в определенное состояние.
А «исполнять» требуется не что попало — а чистое, беспримесное счастье. «Сейчас в отрасль IT вошел тон, который я бы назвала “истерический позитив”, — говорит Ольга Павлова, владелица IT-компании в Санкт-Петербурге. — Позитивным нужно быть в отношении к клиенту, самого клиента надо всегда настраивать тоже на позитив… Любая реакция, отличная от “как здорово, что все мы здесь сегодня собрались”, автоматически описывается как деструктивная. Больше всего это проявляется в цифровом маркетинге, где патока так и хлещет. В работе тоже это есть: что-то ты приуныл, а ну давай веселиться — это твоя работа».
При этом в ходе борьбы за счастье и непрерывную самооптимизацию кооптируется то пространство человеческой жизни, которое в ХХ веке было принято называть «свободным временем». «Глубокое исполнение» эмоций становится инструментом непрерывного мониторинга людей и своей собственной эффективности. «Часто от тебя требуют сделать что-то, что просто невозможно сделать или невозможно в полном объеме. Ты вынужден придумывать разные техники, разные психологические инструменты, которые создадут для тебя иллюзию, что ты куда-то движешься, то есть тебе позволяют переложить вину на себя», — говорит социолог и специалист по трудовым отношениям Наталья Савельева.
Деятельность, которая может приносить счастье и радость, — например, общение с близкими или отдых — имеет ценность лишь для того, чтобы восстановить тело и мозг и чтобы человек снова мог приступить к продуктивной деятельности. «Это утилитарное укоренение корпоративной рациональности во всех сферах человеческой жизни ведет к тому, что “оптимизировать” следует даже перекур или прогулку — они становятся хорошо просчитанным актом в управлении продуктивностью», — пишет Уильям Дэвис.
Уж не стоит ли за новой «экономикой добра» старое доброе символическое насилие? Эксплуатация — это форма трудовых отношений, в которой работодатель присваивает (часто — в грубой и наглой форме) ресурсы и продукты труда работника, получая с них прибыль. Сегодня эксплуатацию сменила апроприация: рынок труда присваивает не навыки, ресурсы и продукт — а всего сотрудника с потрохами, включая его чувства.
Наталья Савельева говорит: «Этот процесс все более глубокого погружения в капсулу корпоративной “заботы” можно назвать “сверхэкспансией”. Смысл ее в том, чтобы компенсировать сотруднику дефицит или высокую стоимость обобществленных благ: например, доступа к здоровью и образованию. На работе у тебя спортзал, страховка, тренинги, вкусная еда — а за пределами офиса все это либо стоит огромных денег, либо недоступно вовсе».
Политолог Георгий Мамедов добавляет: «Поить сотрудников бесплатными смузи и организовывать им комнаты для пинг-понга намного дешевле и выгоднее, чем позволить им организовать профсоюз, обеспечить их долгосрочными контрактами, социальными гарантиями и пенсиями. Жижек называет это “либеральным коммунизмом”, когда для ограниченного числа людей создаются такие иллюзорные плюшки, за которыми ничего не стоит. Это похоже на пир во время чумы, но даже те люди, которых допустили пировать, находятся в очень прекарных условиях».
При этом считать такую апроприацию отличительной чертой исключительно «нового европейского рейха» — глубокое заблуждение. В самой жесткой и неконтролируемой форме присвоение рабочей силы возможно там, где она вовсе не обеспечена достойной социальной защитой. Например, в России, где несгибаемые вертикали власти торчат из-под фиговых листочков «заботы», как ржавая арматура.
Вернемся к российским университетам: здесь идеология «заботливого» преподавания и «чистки» среди политически неугодных профессоров и студентов внедряются по одним и тем же каналам. Одни и те же люди оценивают «эмоциональное содержание» работы профессора — и вычитывают его фейсбук на предмет нелицеприятных заявлений в сторону власти. Safe space и «личные границы» приходится строить в окружении людей с сильно запотевшим забралом. Пока ты укачиваешь на ручках закомплексованного первокурсника, кто-то другой может за несколько часов лишить тебя контракта, имени, репутации, банальных гражданских прав.
И именно поэтому хамство в России пока неизбывно. Этот тезис прекрасно подтверждает исследование культуры коммуникации в системе здравоохранения, проведенное Европейским университетом в Санкт-Петербурге: «С хамством в медицинских институтах сталкиваются все, включая самих врачей. Они признаются, что чувствуют себя беспомощными в условиях российской системы здравоохранения, совмещающей крайности: недостаточно обеспеченные государственные больницы в регионах и дорогие частные клиники в столицах. В первом случае врачам мало платят, а во втором именно потребитель получает ситуативное доминирование. В результате в условиях платной медицины врачи сами могут становиться объектом хамства со стороны пациентов или пациенток».
Врачи и таксисты, преподаватели и банковские операционистки, кассирши и официанты — в сегодняшней России, как и во всем мире — должны соответствовать нормам «экономики доброты». Однако их эмоциональный труд осуществляется в вакууме: он изо всех сил пытается компенсировать собой зияющие дыры гнетущей, экзистенциальной неуверенности. По словам Натальи Савельевой, «разные психологические инструменты, все эти ухищрения по работе над собой — это замена возможности как-то реально менять свою жизненную ситуацию».
* * *
Возможно, именно эта постоянно маячащая рядом прекарность и мешает счастью и энтузиазму на рабочем месте, а в отсутствие коллективных форм борьбы возникают формы индивидуальные. Бич сегодняшнего рынка труда — это не рабочее движение и не социалистические идеи, а банальный burn out, то есть так называемое эмоциональное выгорание. Например, «самой распространенной проблемой, с которой IT-специалисты столкнулись в пандемию, оказалась потеря радости от работы», пишет российский Forbes. «Сопротивление капитализму сегодня выглядит не как баррикадное насилие — а как скучающий зевок, апатия, хроническое отсутствие энтузиазма», — отмечает Уильям Дэвис. Герой сегодняшнего рабочего движения — не герой романа «Мать» Павел Власов, а мелвилловский писец Бартлби с его извечным девизом «I would prefer not to».
По данным Международного экономического форума, эмоциональное выгорание обходится глобальной экономике в 322 миллиарда долларов — это сумма, сравнимая с совместной прибылью от Apple, Alphabet и еще десятка ведущих американских компаний. Согласно другой публикации в Forbes, сотрудники, теряющие трудовой энтузиазм, стоят компаниям на треть дороже, чем вовлеченные и жизнерадостные.
И никакие практики «производства счастья», делающие из работников субъектов уже не трудового, а психосоматического управления, не могут компенсировать прекарность труда, непрозрачность системы управления, тревогу о завтрашнем дне. Евгений Креславский утверждает: сам термин «эмоциональное выгорание» неверен. «Проблема не в том, что люди эмоционально выгорают, а в том, что у них есть постоянное ощущение, что они непрерывно вкалывают, а никаких достижений нет, — говорит Креславский. — Разрешить эту проблему наймом “менеджера по счастью”, как это делают многие компании, невозможно: нужно менять систему управления и систему коммуникации. Это не индивидуальная вещь».
От улыбки хмурый день, безусловно, светлей. Но в старой детской песенке ей предлагают делиться — а не торговать. В лицо тем, кому управляемые позитивные человечки удобнее свободных граждан, можно и нужно просто ухмыльнуться.
Редактор: Михаил Ратгауз
[1] По просьбе моей собеседницы имя изменено.
[2] T. Kaneh-Shalit, J. Lerner and C. Zbenovich. Changing Meanings of University Teaching: Emotionalization of Academic Culture in USA, Israel and Russia (готовится к выходу в журнале Emotions and Society, май 2021 года).
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Современная музыка
Современная музыкаГородские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы
25 ноября 20211599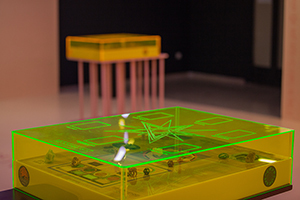 Искусство
Искусство Современная музыка
Современная музыкаДружба двух столиц на совместном треке московских альт-рокеров и петербургского хип-хоп-дуэта
24 ноября 20211922 Общество
ОбществоЮрист Правозащитного центра «Мемориал»* рассказала Эвелине Руденко о своей работе и о людях, которые пострадают от его потенциальной ликвидации
24 ноября 2021265 Литература
Литература Colta Specials
Colta Specials Общество
ОбществоГлеб Павловский об идеях Арсения Рогинского и о том, что за угрозой «Мемориалу»* стоит не политика, а стратегия военного типа
22 ноября 2021187 Общество
ОбществоИсторик Ирина Щербакова рассказывает о своих старых аудиозаписях женщин, переживших ГУЛАГ, — они хранятся сейчас в архиве «Мемориала»*. Вы можете послушать фрагменты одной из них: говорит подруга Евгении Гинзбург — Паулина Мясникова
22 ноября 2021338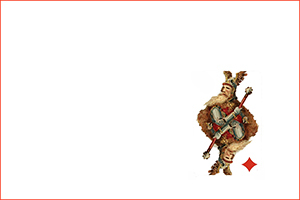 Молодая Россия
Молодая Россия«Иван Ильич подошел к мечети имени Рамзана Ахматовича Кадырова и горько взглянул на ее нежные белокаменные стены». Рассказ Сергея Мирошкина
22 ноября 20211614 Colta Specials
Colta SpecialsОлег Радзинский о новом фильме, снятом автором «Москвы» и «Мишени», режиссером Александром Зельдовичем
22 ноября 2021196 Искусство
Искусство She is an expert
She is an expertЛариса Малышева вспоминает, как в 1970-х монументальные объекты стали световыми — и как она их проектировала
19 ноября 2021261