 Кино
КиноВыверните карман
Юридическо-правозащитный проект «Команда 29» с 2014 года занимается тем, что помогает гражданам добиться доступа к государственным архивам — в частности, архивам ФСБ и МВД, где хранятся сведения об их родне. Название проекта отсылает к двум статьям: 29-й конституции — о свободе информации и 29-й Уголовного кодекса — о государственной безопасности.
В последнее время характер работы «Команды 29» изменился: теперь к судебным сражениям за открытость данных прибавилась юридическая поддержка людей, которых государство обвиняет в госизмене.
Галина Красноборова расспросила руководителя проекта, известного адвоката Ивана Павлова, и старшего юриста «Команды 29» Максима Оленичева о том, как идет эта работа.
— Что, собственно, законы говорят нам о доступе к архивам?
Иван Павлов: Надо сказать, что российские законы о доступе к информации не так уж плохи. Например, я горд тем, что и сам был автором двух из них: «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». Это вполне современные законы, по крайней мере, современнее многих европейских аналогов. Другой вопрос — что Россия слишком поздно их приняла. Напомню, что первый закон о свободе информации появился в Швеции. В 1766 году. Можно почувствовать эту разницу во времени и сравнить социально-экономическую ситуацию в Швеции и России. Потому что свобода информации находится в очевидной для меня связи с качеством жизни, с качеством демократических процедур, с взаимоотношениями между гражданами и властью.
Но законы у нас, повторюсь, неплохие. А вот практика их применения далека от идеалов правового государства. Даже больше: между ними пропасть. И наша первоочередная задача — сократить ее.
Делать мы это можем, постоянно требуя исполнения законодательства. А где мы можем этого требовать? Правильно — в судах. Там, где разрешаются споры. Несмотря на то что по большинству дел мы, может, и не достигаем положительного результата, с каждым судом мы накапливаем опыт и привлекаем внимание общественности к самой проблеме. Капля камень точит, рано или поздно, верю, практика применения этих законов изменится.
Такие сдвиги уже были. Например, есть закон о гостайне, а в нем положение о тридцатилетнем предельном сроке засекречивания. Тридцать лет прошло — сведения должны быть раскрыты. Есть процедура, продлевающая срок засекречивания сверх максимального, но для этого должна собраться целая межведомственная комиссия, которую возглавляет ни много ни мало президент России.
Используя эту норму, мы обращались в суды и говорили: вот тридцатилетний срок прошел, но государственные органы нам отказывают в доступе к материалам, ссылаясь на то, что они засекречены. Чтобы обосновать отказ, они изобрели такую правовую конструкцию: закон о гостайне принят в 1993-м, но его положения обратной силы не имеют. То есть все распространяется только на сведения, засекреченные после 1993-го, а у всего остального никаких предельных сроков засекречивания вообще нет. Глупость и абсурд.
Наши суды тоже послушно вставали на эту позицию, мы наработали отрицательную практику, а затем в 2014 году обратились в Конституционный суд с жалобой, оспаривая положения закона о гостайне и то, как они понимаются государственными органами. И Конституционный суд неожиданно встал на нашу сторону, признав, что госорганы неправильно понимают закон.
Надо признать, что такие решения теперь — редкость. Ведь сейчас не лучшее время для разговоров о свободе информации. Потому что война. А во время войны действуют законы военного времени, есть военные тайны. Государство и общество под его давлением милитаризируются и закрываются. Отсюда — поиск внутренних врагов и вспышка дел о госизмене, потому что госизмена — это современная юридическая дефиниция «врагов народа».
— Почему государство так сопротивляется рассекречиванию архивов? Чем могут навредить сведения о том, что случилось 80, 90 лет назад в другом, в общем-то, государстве?
Павлов: Есть много версий. У меня своя. С которой не согласны некоторые историки, в частности, из Международного Мемориала.
Вообще есть старая китайская поговорка: о чем бы ни говорили люди, они всегда говорят о деньгах. Поэтому надо искать экономический интерес. Если архивы откроют, вылезет очень много неблагоприятного для России, такого, что может вызвать реакцию международного сообщества, иностранных государств, причем не только бывших республик Советского Союза, с которыми Россия в то время особо не церемонилась. Если посмотреть на опыт Германии, которая до сих пор расплачивается за прошлое, платит и жертвам, и государствам, то можно представить, что для России существует угроза последовать по этому же пути. Открытые архивы могут стать основанием для предъявления чисто экономических претензий к стране.
Может, я, конечно, упрощаю и помимо этой причины есть и другие. Но для России открыть архивы — это как открыть второй фронт, предоставив международному сообществу дополнительные аргументы в и без того непростой политической обстановке.
— Чувствуете на себе, как времена меняются?
Павлов: Конечно. Вообще для меня водоразделом стал 2012 год. Если до него все двигалось в сторону открытости, то после него движение пошло в совершенно другом направлении. И это отразилось в том числе на нашей деятельности. Наш Фонд свободы информации был признан иностранным агентом. Мы перестроились, в 2014-м появилась «Команда 29», но наша деятельность уже не такая мирная, как раньше.
Нашим направлением всегда было отстаивание справедливости в делах, касающихся свободы информации. Вот только теперь это не ограничивается доступом к архивам. Власть пошла в атаку, а жертвами пали обычные граждане, часто не имеющие никакого отношения ни к государственной безопасности, ни к секретной информации. В нашей практике появилось много уголовных дел.
Первым таким делом было дело матери семи детей Светланы Давыдовой, как раз в этот момент из сосуда и выпустили джинна шпиономании. После этого нас накрыла целая волна шпионских процессов. Очевидно, что милитаризация общественного сознания создает благоприятную почву для поиска врагов народа.
Так что часть наших юристов по-прежнему занимается архивами и рассекречиванием, но значительную долю нашей юридической практики сегодня составляют уголовные дела. По статье о госизмене обвиняют не только ученых, журналистов и бывших сотрудников спецслужб, но и совершенно случайных людей, подвернувшихся под горячую руку: домохозяек и продавщиц с рынка. Впрочем, ни разу не встречал еще настоящего шпиона ни среди тех, ни среди других. Зато у будущих поколений будет много интересной работы с архивами.
— Максим, расскажите подробнее о том, как вы работаете с архивными делами…
Максим Оленичев: Начну с начала. Решение о том, что необходимо рассекретить архивы КГБ, то есть материалы, касающиеся репрессий, было принято еще в 1989 году. В 1990-е появилось достаточно много публикаций из архивов ФСБ. А вот с начала 2000-х архивы стали закрываться.
В 2006-м было введено Тройственное положение, утвержденное ФСБ, Министерством культуры и МВД, которое касалось допуска к архивным делам, хранящимся в МВД и ФСБ. Исследователей и даже родственников перестали допускать к материалам дел, если проходящие по ним лица не были реабилитированы.
По данным МВД и Главной военной прокуратуры, с 1992 по 2018 год реабилитированными признали около 2,9 миллиона человек, а почти миллион сочли не заслуживающими реабилитации. Запрашивая о таких осужденных, можно было получить только короткую справку: фамилия, имя, отчество; когда был осужден; где, когда отбывал наказание; если погиб в месте отбывания наказания, то дата смерти (если она известна). И все. Подавалось много исков, в том числе и «Командой 29», но в таких исках всегда отказывали, ссылаясь на это положение.
В 2018 году совместно с ПЦ Мемориал мы взялись за дело актера Георгия Шахета. Его дед Павел Заботин, расстрелянный в 1933 году, работал заведующим строительным сектором буфетного управления Ленинского нарпита и был осужден по общеуголовной статье — за хищение госимущества. А осужденные за экономические преступления не подлежат реабилитации. Решение о расстреле Заботина тройка приняла уже после двух недель ареста. По этому же уголовному делу были арестованы еще 22 человека, четверо из них также расстреляны. Речь в деле Заботина шла о хищении 20 тысяч кирпичей и 22 ящиков со стеклом; скорее всего, в условиях дефицита тех лет строители просто обменивались между собой стройматериалами: ведь за несдачу объекта в срок им также грозили аресты или даже расстрелы.
Чтобы выяснить, что же случилось с дедом, Шахет запросил материалы в управлении МВД по Московской области. Но ему отказали. «Команда 29» и Международный Мемориал стали обжаловать эти решения. Нам отказывали во всех инстанциях. В конце концов мы подали жалобу в Верховный суд. И Верховный суд увидел, что здесь есть рациональное зерно, и вынес вопрос на заседание судебной коллегии по административным делам. В итоге Верховный суд обязал Главное управление МВД по Московской области ознакомить Георгия Шахета с материалами дела нереабилитированного Павла Заботина. Сейчас это прецедентное дело, на решение по которому ссылаются многие заявители в разных регионах России.
Или мы занимались делом Ильи Генделева. Его дед Илья Закон, заведующий мебельным ателье, был обвинен в растрате и осужден на четыре года. В 1942 году он умер в ленинградских «Крестах» от дистрофии и был похоронен на Пискаревском кладбище, в братской могиле с другими жертвами блокады. В детстве Генделеву говорили, что дед погиб на войне. И только однажды кто-то из родственников проговорился о «Крестах». После этого его бабушка рассказала, что, работая в ателье, Илья Закон доверял людям и брал заказы в кредит. А финансовая комиссия обнаружила «недостачу». Долгое время Генделеву повсюду отказывали. Но благодаря повороту в деле Шахета он тоже в итоге смог получить копию архивного дела своего деда.
— То есть теперь можно получить доступ к архивам, основываясь на деле Шахета?
Оленичев: Что касается архивов МВД, то нам это удалось. В МВД хранятся внесудебные решения по высылке, депортации, отбыванию наказания в лагере. Что касается архивов ФСБ, то там, как правило, находятся дела об осуждении тройками или судами. И ФСБ по-прежнему массово отказывает в ознакомлении с делами, ссылаясь на то, что дело Шахета относится к МВД. Но рано или поздно мы поменяем практику и в отношении архивов ФСБ.
— Зачем вообще родственникам доступ к архивам?
Оленичев: Кто-то хочет знать правду. А кто-то готов добиваться реабилитации. Но для этого нужно сначала выяснить обстоятельства дела. Например, мы помогаем Дмитрию Острякову узнать о судьбе прадеда, который в 1943 году был осужден приговором военного трибунала Воронежской области на семь лет лишения свободы по ст. 58-1а УК РСФСР («Измена Родине») и погиб в лагере на Дальнем Востоке. Остряков хочет узнать, что же вменялось его прадеду, и после этого принять решение, будет ли он инициировать его реабилитацию.
Смысл нашей деятельности — не оправдать тех, кто действительно совершил общеуголовные преступления, а предоставить и родственникам, и обществу правдивую историческую информацию о том, что происходило в 1930-х — 1940-х, когда многие не могли рассчитывать на правосудие. Люди вправе знать о своей истории.
Или вот еще пример: наши юристы представляли интересы Владимира Крылова, который просил реабилитировать дядю Владимира Хромеева, расстрелянного в 1937 году. Тот отбывал срок в лагере за «хулиганские действия» и дважды пытался бежать. После второй попытки его расстреляли. В результате суд в 2018 году заменил приговор: расстрел на год заключения.
— Расстрелянному 80 лет назад заменили расстрел на один год заключения? Это что, издевка?
Павлов: Я не думаю, что это умышленная издевка. Это ловушка, созданная нашими юристами, в которую угодил суд. С одной стороны, это политическая недальновидность, из-за которой те, кто вынес решение, выглядят смешно. Но с другой, суд руководствовался политической целесообразностью. И сделал все, чтобы не реабилитировать человека полностью. Они попытались сохранить лицо. Но иногда попытка сохранить лицо приводит к тому, что становится видна жопа. Суд попытался выкрутиться: «он все-таки виноват, но давайте его приговорим не к расстрелу, а к году лишения свободы». Хотя, конечно, такие полумеры, кроме смеха, ничего не вызывают.
— Не только граждане бывшего СССР хотят узнать о судьбе родных?
Оленичев: Один из наших клиентов, немец Гельмут Фридрих, пытается получить документы о расстрелянном отце. Курт Фридрих владел стекольными мастерскими, где работали советские военнопленные, и был расстрелян, когда наши войска вошли в Германию. С 90-х годов Фридрих упрямо пытается получить доступ к документам, чтобы узнать, что именно случилось с его отцом, но получает отказ за отказом. Это дело засекречено и хранится в архиве ФСБ. Сейчас «Команда 29» обратилась с запросом о рассекречивании дела.
— Видела среди ваших дел, что историки через суд пытаются получить доступ к делу расстрелянного в 1920 году Колчака, а аргентинская исследовательница, занимающаяся биографией Эйхмана, — к архивам Министерства обороны. Странно, что даже профессиональным исследователям никак не подобраться к архивам. Даже когда речь идет об Эйхмане. Почему, собственно, не открыть материалы, связанные с «архитектором Холокоста»? Это уж точно ничем не грозит нашему государству.
Павлов: Потому что страшно. Страшно даже слегка приоткрывать архивы. Это как нарушение герметичности. Из воздушного шарика невозможно выпустить чуть-чуть воздуха, начнешь выпускать — и выйдет весь. Стоит только приоткрыть архивы, как они откроются все. Именно этого и боится государство. Поэтому выдает буквально какие-то крошки, причем порционно, после долгих и мучительных раздумий о том, может ли эта информация как-то навредить.
— То есть дело не персонально в Эйхмане или Колчаке, а в нежелании создать прецедент?
Павлов: Не в нежелании даже — в страхе. Ведь, предоставив доступ А, нужно будет потом предоставить Б, и так до самого Я.
— И какие, по вашему мнению, в этом смысле перспективы?
Павлов: Россия — вообще сложная страна по части прогнозов и предсказаний. Иногда движение страны так сильно меняется, что сложно что-то предположить. Но, исходя из сегодняшней ситуации, я склонен считать так: в ближайшей перспективе все будет плохо, а в более-менее отдаленной все станет хорошо.
— И на чем же основан ваш оптимизм?
Павлов: На общем векторе развития человечества. Прогресс, который мы наблюдаем, рано или поздно приведет к открытости — она более естественна и более выгодна. А нынешняя закрытость в России присуща только лицам с советским менталитетом, который пропах нафталином.
Я верю в то, что новые технологии заставят по-современному относиться и к власти. Ведь властные процедуры — это тоже о технологиях, о том, как все управляется. Современный подход в управлении потребует большей открытости.
Вообще у нас вырастает поколение, более продвинутое и менее склонное к чинопочитанию. Ведь именно чинопочитание приводит к сакрализации власти. А у современного человека его нет, он к власти относится проще. Мне кажется, смена поколений как раз и принесет свои плоды. И во власть придут люди, которые будут понимать, что использовать старые советские подходы к управлению в современных условиях, во-первых, сложно, а во-вторых, неэффективно. Чтобы жить в России долго, надо быть оптимистом. Чего и всем желаю.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Кино
Кино Литература
Литература Общество
ОбществоКак правильно читать Хабермаса? Может ли публичная сфера быть совершенной? И в чем ошибки «культуры отмены»? Разговор Ксении Лученко с Тимуром Атнашевым, одним из составителей сборника «Несовершенная публичная сфера»
25 января 20229374 Искусство
Искусство Литература
Литература Кино
КиноКлассик Нового немецкого кино — о переломном времени, любви к России и продолжении традиций Эйзенштейна, Ланга и Мурнау
21 января 20228820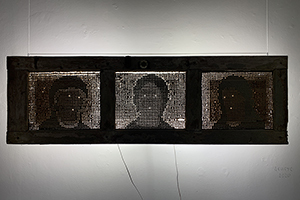 Искусство
Искусство Искусство
Искусство Театр
Театр Литература
Литература Современная музыка
Современная музыкаВ 2021 году музыканты почувствовали себя врагами государства, но не боялись об этом петь
20 января 20229076 Академическая музыка
Академическая музыка