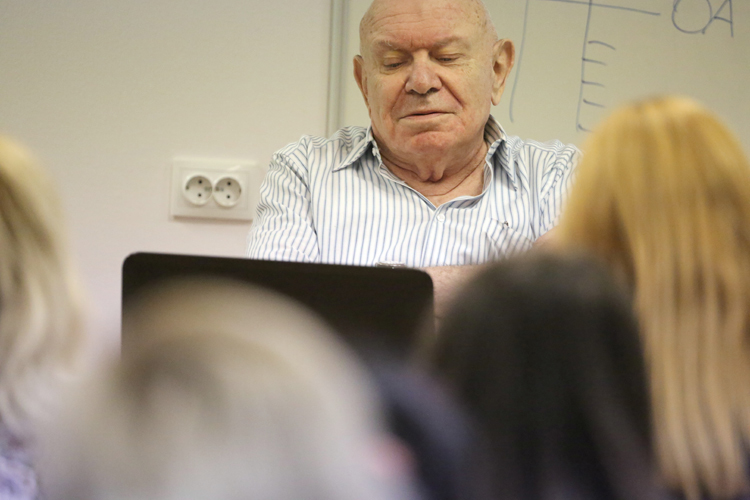Теодор Шанин — выдающийся человек. Крупный, яркий, энергичный, он прошел через войны и распады государств, создал один из самых ярких российских университетов — Московскую высшую школу социальных и экономических наук, причем в зрелом возрасте; перелистнув XX век, легко шагнул в XXI столетие и прописался в нем. Сюжет его жизни головокружителен. С суждениями Теодора Шанина можно соглашаться или не соглашаться (несогласие с несогласным — милое дело), но не чувствовать, что рядом с тобой — человек Большой Истории, нельзя.
При поддержке фонда «Либеральная миссия» мы с Татьяной Сорокиной записали много часов видео, и этот проект еще будет представлен публике. Но шанинский рассказ столь ярок, что просто глупо было бы не превратить его в автобиографическую повесть. В тексте сохранены некоторые чудесные особенности шанинской речи — чуть-чуть, вкраплениями, без перебора, поскольку Теодор — человек не только многих гражданств, но и многих языков; этот аромат многое добавляет к рассказу.
Александр Архангельский
Глава 1. Виленчанин
Когда меня спрашивали: «Ты откуда родом?» — у меня всегда была проблема, как ответить. И в конце концов сложился такой речитатив: мой отец родился в России, моя мама родилась в Германии, я родился в Польше, при этом мы все родились в одном и том же городе, который теперь является столицей Литвы.
Если проще и конкретнее, я родился в Вильно, нынешнем Вильнюсе. В 1930 году то был губернский город Польши, половина населения которого ощущала себя евреями. На юге Польши были евреи, которые определяли себя как поляки еврейской религии, а в Вильно местные евреи бесились, когда кто-либо смел так их называть. Потому что в своих глазах они были евреями с большой буквы. Город был столицей миснагдим, или литваков — тех евреев, которые вслед за виленским гаоном, то есть гением из Вильно, который считался и святым, и самым умным, и самым великим, оказали в XVIII веке сопротивление хасидскому движению, как и ассимиляции.
Гаон по имени Элияху бен Шломо Залман был не только главным теологическим авторитетом, но и блестящим математиком, то есть человеком, склонным к рациональному мышлению. И когда мы говорили «наши», то это значило «евреи, но не хасиды». Над хасидами посмеивались. Они танцевали, когда молились. Они пели во время молитвы. Что миснагед считал невероятно неприличным и глупым. А еще считалось, что хасиды не умеют защищать свою еврейскость. А как ее защищать? Надо драться с польскими антисемитами. Хасиды не умели драться как надо, а виленчане дрались отлично. И еще они не принимали мистическое мышление, которое выражала каббала, и всякое такое прочее. Они считали, что настоящая религия — это Талмуд, свод правил. То есть быть по-настоящему религиозным — это изучать и знать право. И раввин для них был советником по праву, а не представителем святости. Миснагед нес личную ответственность перед Богом за свое поведение и свои взгляды.
Это, конечно, создавало такую жесткую пуританскую религию. Миснагеды были, так сказать, еврейскими пуританами, что я понял куда позже, когда увидел настоящих пуритан. И вели себя предельно ответственно. Купцы из Вильно не подписывали договоров, потому что, если человек сказал слово, он его будет соблюдать. Мой отец гордился, что никогда не подписал векселя. Кстати, слово «миснагед» значит на иврите «несогласный». Так что я — из несогласных.
Маму мою звали Ребеккой Яшуньской. Это звучит совершенно как польская дворянская фамилия. Причина, по-видимому, в том, что евреи, работавшие на польское дворянство, часто, когда начали раздавать фамилии, принимали фамилию человека, который был хозяином земель. (Есть место недалеко от Вильно, которое называется Яшуны.) В семье говорили на нескольких языках — что, между прочим, было довольно нормально для средних классов Вильно. Мать кончала польский университет и всем языкам предпочитала польский. И так как она командовала домом, то именно она решила, что я должен говорить совершенно без акцента и блестяще на польском языке, потому что это язык из страны, в которой я живу.
Характер у нея был жестким и сильным. Она была моложе отца на тринадцать лет. Что в ея социальном классе считалось нормальным: у богатого человека должна быть молодая, красивая жена. Экстраординарным было другое: в ея поколении замужние женщины не ходили в университет. Она в этом отношении представляла собой редкое исключение.
Дед говорил блестяще по-польски: он вообще был очень хорошим лингвистом; позже, когда в город пришла новая литовская власть, он был единственным членом нашей семьи, который в течение года выучил литовский. Отец всегда предпочитал русский. Так как был в русском университете в Петербурге и всякое такое прочее. Звали его Меер Зайдшнур. «Зайд» — это, конечно, и по-немецки, и на идиш «шелк». А «шнур», как и на славянских языках, — «шнурок». Что, по-видимому, определяло, чем занимались праотцы. Потому что вся его семья была «в текстиле».
Главной в семье моего отца была его мать, которую я никогда не видел: бабушка умерла до того, как я появился на свет. Ее знало все еврейское Вильно. Родители моего деда по отцу, когда он начал взрослеть, поняли, что он по понятиям Вильно будет никудышник. То есть человек, который не умеет заниматься бизнесом. И что когда они умрут, он разбазарит все, что семья собрала. И они сделали то, что в таких случаях купеческая семья умела всегда делать, во всяком случае, в Вильно. Они вызвали свах и свахам объяснили, в чем дело.
Свахи взялись за работу и нашли нужную невесту, мою бабку, которая девчонкой осталась без отца и забрала управление домом из рук безвольной матери. Выйдя замуж за деда, бабка сумела поставить дело так, что с временем все четыре ее сына смогли создать собственные бизнесы, а все три дочери имели достаточно денег для «надана» и хорошего замужества. Потому что, когда бабушку сосватали с никудышником, она сразу поняла свою задачу. Средней величины магазин текстиля превратила вскоре в целую текстильную империю. Она говорила свободно только на идиш, языкам ее не учили. Но она могла объясниться на всех языках, ездила в Берлин, в Петербург покупать товар.
О ней слагались легенды, которые до меня, конечно, дошли.
Одна — о том, как она вернулась откуда-то с товаром (скажем, из Берлина, где были отменные ткани) и стоит перед ним в магазине. Ее главный приказчик вытянулся перед ней с записной книжкой, чтобы записывать инструкции, остальные приказчики бегают вокруг, взвешивают. И она громко рассуждает: если мы поставим пять рублей за эту ткань, для меня будет обидно. Поставить семь рублей — покажется обидно клиентам. Ставьте четырнадцать. И продавала.
Согласно другой легенде, к ней ходили часто с просьбой дать деньги на бедных. Ну, скажем, есть хорошая небогатая девушка и есть молодой человек, у которого ничего нету, если не помочь, они не смогут жениться. Она выслушивала просьбу, все в деталях расспрашивала, потом говорила: «Хорошо, я должна посоветоваться с своим мужем», выходила в пустую комнату, возвращалась и говорила: «Мой муж согласен».
Город знал это. Она была героиней виленских купцов, во всяком случае, текстильных. Они часто приходили к ней за советом. Умерла она рано, в пятьдесят с чем-то; никудышник-дед прожил до восьмидесяти пяти и умер от воспаления легких. Мой отец был младшим сыном и, когда пришло время делить дело после смерти матери (не передавать же никудышнику), вернулся из Петербурга, благодаря чему выпал из революции.
К тому времени, когда я помню отца, он был одним из богатых купцов города; особенный успех ему принесло то, что он стал монополистом продажи галош. На Виленщине крестьянин носил войлоковые валенки. Пимы твердые, валенки мягкие, их надо носить с галошами. А виленчан было три миллиона, из которых два с половиной миллиона — крестьяне, и галоши продавали в своих лавках местные еврейские купцы, предпочитавшие работать с еврейским гуртовиком. То есть человеком, который получал крупные партии от заводов и перепродавал.
Прежде чем стать богатым человеком, он был членом эсеровской студенческой организации в Петербурге. Участвовал в тех группах, которые пошли в войска уговаривать их перейти на сторону народа. Очень гордился этим. Но когда он приехал в Вильно, конечно, ситуация изменилась; с одной стороны, он вернулся в семью богатых купцов, с другой, всей душой принял сионистическое движение, стал его вожаком, членом партии общих сионистов, то есть сионистом-либералом.
Деда по матери звали Григорий Яшуньский. Он выглядел как пенсионированный полковник русской армии. Крепкий. Усатый. Бритая голова. Одно из самых сильных впечатлений самого младшего моего детства — когда он выходил со мной на улицу прогуляться и вынимал небольшую такую коробочку. Открывал ее. Там была маленькая щетка и черная краска. Он проводил ею по усам. И это была, конечно, очень важная минута, знак, что мы выходим прогуляться.
Дед был Яшуньский. Мать — Яшуньска. Отец — Зайдшнур. Почему же я — Шанин? Самое простое (но неполное; полного вам придется подождать) объяснение заключается вот в чем. Никто, кроме поляков, не мог правильно произнести или написать мою фамилию. Что мешало. Особенно трудно стало, когда я приехал в Англию изучать работу разных социальных министерств Великобритании. И ежедневно меня встречал у такси молодой человек, младший чиновник, и пытался выговорить мою фамилию. Причем глядя в бумажку. Сбивался не меньше трех раз кряду, просил его извинить и подсказать, как это звучит. Я произносил: «Зайдшнур», он почтительно открывал дверь и говорил: прошу, господин... После чего запинался, краснел и всякий раз выборматывал непонятное.
Я злился, но не мог ничего изменить, потому что отец очень гордился своей семьей, своей фамильной историей. И лишь когда он ушел к праотцам, я решил, что вот: настало время. Нашел знакомого, который работал в Академии языка иврита. И сказал: вот, видишь, я ума не приложу, как себя назвать. Его предложение — Шани. Почему Шани? Потому что «шани» — это «пурпур». Пурпурный цвет на иврите. И это как-то связывалось, на его взгляд, с фамилией, в которой были «шелк» и «шнурок». На что я возразил: мы не украинцы. И у нас ничего на «и» не может кончаться. Я начал добавлять по одной букве в конце для проверки. Шанис, Шанир, Шанин, Шанинов. В конечном итоге Шанин прозвучало прилично. Я открыл телефонную книгу Тель-Авива, посмотрел — никаких Шаниных. Потому что новых родственников я не хотел. И написал письмо в Министерство внутренних дел, что вот, прошу изменить мою фамилию на Шанин. И стал Теодором Шаниным.
Мама была нерелигиозной, как и отец. За тем единственным исключением, что она зажигала свечи при встрече субботы. То есть для нея неким подобием религиозного переживания было воспоминание о мертвых. И оно, переживание это, со временем даже усилилось, когда количество мертвых в семье начало увеличиваться изо дня в день после того, как немцы вошли в город.
Что же до самой субботы, то ее соблюдали, в главном из-за деда, который был глубоко религиозен. Семья собиралась за общим столом в нашей большой квартире, чтобы вместе обедать, и всегда были гости. Представители высокопоставленных семейств, университетские друзья матери, разные люди, с которыми были дела у отца, его политические друзья, артисты, писатели, поэты, писавшие на идиш, — эту артистическую часть называли «Молодое Вильно».
Моя бонна сидела около меня, чтобы присматривать за моими манерами. Я же был не просто мальчиком: я был паничем. (Не знаю, каким бы я вырос, если бы это так и осталось. Но это — не осталось.) За столом я молчал. То есть я никогда не проронил слова за весь период моего сидения за этим столом. А они меж себя говорили, что, конечно, влияло на меня и учило меня разным вещам, включая идиш и русский язык, который за столом иногда звучал. Спустя десятилетия я начал приезжать в СССР и оказался в Вильнюсе, столице Советской Литвы. Выступал в Институте экономики сельского хозяйства. Они мне задавали вопросы, я отвечал. Вдруг одна дама подняла руку и спросила: «Если можно, у меня не аграрный вопрос. В чем секрет вашего прекрасного русского языка?» На что я ответил: «Ну, секрета нет. В этом зале я — единственный виленчанин». Было какое-то мертвое молчание. Я про себя подумал, что напрасно так пошутил, не надо было так резко бить их по больному месту: самое обидное, что можно было сказать литовцам, — это напомнить, что Вильно — не их город. Но вдруг кто-то засмеялся. И следом за этим раздался взрыв хохота.
Кстати, у меня была русская няня из эмигрантов, дочка какого-то высокого офицера. Многие из тех, кто бежал из России, осели в Вильно, потому что там можно было говорить свободно по-русски, город был многоязычный. Мать рассказывала, что няня в какой-то момент заявила, что уходит от нас. Мама всполошилась, потому что это была прекрасная няня, трудно было такую найти. Спросила: почему, что произошло? Вам недостаточно плотят? И та сказала: я не могу оставаться, потому что панич меня ударил. На что мама кинулась на меня: ты что, ударил няню? Я ответил:
— Ты сама сказала, что, если тебя атакуют, нужно отбиваться.
— Ты что, хочешь сказать, что няня тебя ударила?
— Нет, но она гневалась на меня, и это выглядело, как будто бы она может меня ударить.
Мои родители, повторюсь, были не религиозны, но либеральны. И либеральны также по отношению к религии. Поэтому они решили, что я должен знать еврейскую религию, как полагается. И передоверили меня моему верующему деду. Дед меня забирал в синагогу. Он мне объяснил, что такое еврейскость, что такое еврейская религия. А еще он часто мне рассказывал отрывки истории русской, которую он изучал, по-видимому, в школе. И отрывки истории еврейской. Рассказывал так, как будто это сказки. Я спустя годы вдруг сообразил, что это не сказки, а история, легенды исторические. А первая книга, которую я сам прочел, была тоже связана с историей — биография Наполеона Бонапарта. Мама как раз тогда готовилась к экзаменам на звание магистра Виленского университета. Она с коллегами сидела за рабочим столом, а я лежал на полу, на коврах, и, чтобы меня занять чем-то, она мне дала ту книгу.
И сам Вильно — он тоже был наглядным пособием по истории. Литовской, польской, еврейской. В тот мой приезд в советский Вильнюс, когда я резковато пошутил насчет единственного виленчанина, я пообщался с заместителем директора по науке Казимирой Прунскене, будущим первым премьером независимой республики. Я звал ее «доктор Прунскене». Она в благодарность за прочитанную лекцию предложила мне показать Вильно. Я ответил:
— Буду благодарен. И я бы захотел начать с гроба сердца Пилсудского.
Она изумленно на меня посмотрела:
— Какого гроба? Откуда в Вильнюсе быть гробу Пилсудского? Пилсудский похоронен не здесь.
Я сказал:
— Да, он лежит в Кракове, но его сердце похоронено здесь.
И подробно рассказал ей о завещании Пилсудского; о том, как его сердце временно замуровали в крипте церкви Святой Терезии, а потом перезахоронили вместе с гробом его матери на кладбище Росу в Вильно.
Русские войска вошли в Вильно дважды. Первый раз в сентябре 1939-го, когда они ударили в спину остаткам польской армии, которая еще отчаянно сопротивлялась в Варшаве и в других местах. Вошли, конечно, без боя, так что это была минута великого удивления всех виленчан. Мы были в войне с немцами, и вдруг русские танки вошли. Это было совершенно неожиданно. Из этого периода, продлившегося примерно два месяца, запомнилось, во-первых, что отец исчез из дома: в семье боялись, что его арестуют как буржуя, и поэтому прятали. И во-вторых, что нам в квартиранты послали политрука высоких рангов.
Он жил в моей детской комнате и был необыкновенно вежлив, спокоен, умен. Не только у меня, у всей семьи остались необыкновенно позитивные впечатления от этого человека. И в какой-то момент мама рассказала ему, что какие-то жены офицеров купили себе ночные рубашки и решили, что это вечерние туалеты. И вышли в этих вечерних туалетах на улицу Мицкевича, главную, прогуляться. И город, конечно, смеялся вовсю. Используя возможность посмеяться над русской оккупацией. Он как-то очень невесело хмыкнул, задумался и ответил. Я этот ответ запомнил. Я его тогда не понял, но понял позже:
— Мы танки строили. Вы танго танцевали.
Столь же неожиданно Красная армия ушла — после того, как было принято решение передать Вильно литовцам и продемонстрировать, что все произошедшее не было атакой на Польшу, а справедливым воссозданием законных границ. Они отдают литовцам то, что было их. Забирают себе Западную Белоруссию и Западную Украину. Но через два месяца, когда русские танки выкатились, литовцы пришли не сразу. Тут же родилась шутка: это потому, что единственный танкист литовской армии простудился. Это, конечно, поляки придумали. Но вообще виленчане любили пошутить насчет самих себя и насчет других, поэтому шутку подхватили.
Через год русская армия появилась опять. Нам объявили позже, что по просьбе жителей Литвы Советский Союз решил их освободить. Я был на даче с мамой, когда над городом вдруг появилась масса самолетов. Они летели к Виленскому аэродрому. Очень хорошо помню этот момент. И еще я помню — и буду помнить до конца жизни — огромный плакат, который висел на каждой стене в Вильно. Очень мускулистая рука, которая сжимала шею гадюки. На гадюке было написано «Буржуазия». А на руке — «Пролетариат».
В течение трех дней нас национализировали, отобрали и завод, и магазины огромные. Мы переехали в более скромную квартиру. Нас выбросили из той квартиры тоже — ее передали приезжающим советским чиновникам. Тогда мы переехали в предместье Вильно, в небольшой дом; и все население вокруг дома было польское. То есть там не было ни одного еврея. Я как-то застал свою сестру, которой тогда было три года, за тем, что она бросает в соседских девочек кирпичи, довольно крупные.
Я ее спросил:
— Ты что делаешь?
— Они меня обижают.
— Как они тебя обижают?
— Они говорят, что я еврейка.
Мне пришлось ей объяснить, что она и впрямь еврейка и что это не обидно, а, напротив, очень хорошо. Даже блестяще. И она перестала кидаться кирпичами.
До тех пор — это было твердое решение родителей — я ходил в ивритскую школу. Где практически все давали на иврите — математику, химию и так далее. И вот из лучшей, мощнейшей школы, входившей в образовательную сеть «Тарбут», я попал в рядовую польскую школу, да еще в предместье. И в первый же день меня зверски избил какой-то ученик из второгодников. Он был больше меня раза в два. Я отбивался, но не помогало, так как он даже не чувствовал моих ударов. Я вернулся домой, залитый кровью. Отец спросил, что такое. И я объяснил. Он ринулся к директору. На что директор ответил, я это помню хорошо: «Я очень сожалею, господин Зайдшнур, но я не смогу защитить вашего сына».
С этим мы вернулись домой. Родители советовались при мне. И решили, что я должен переходить в идишистскую школу (ивритские сразу закрыли). По крайней мере, меня не будут бить за то, что я еврей. Проблема заключалась в том, что я не знал идиш достаточно. Кое-что понимал, но не больше. Поэтому мне наняли учителя, который со мной работал ежедневно и за хороший ответ давал мне почтовую марку — я их тогда собирал. И еще была проблема — школа находилась в городе, а мы жили в предместье. Я бежал за автобусом, ехал и после этого шагал через часть города, пока добирался до школы.
И тут выяснилось, что бывают проблемы другого порядка; к ним мы оказались не готовы. Моим одноклассникам объяснили, что есть классовая борьба, в которой пролетариат при помощи Красной армии победил буржуазию. И что это очень хорошо, будущее будет еще более блестящим. Ну, для мальчишек в моем возрасте (мне тогда было лет девять) классовая борьба выражалась кулаками. И для классовой борьбы был нужен буржуй, каковым я и оказался.
Там, конечно, было еще несколько учеников из моей бывшей школы, но они как-то растворились; они не вели себя как миснагдим. А я вел себя как миснагед. То есть с ходу отвечал на все обиды кулаком. И начался такой период, когда я дрался все время. И отстаивал свои взгляды. Отца однажды вызвали в школу и пожаловались, что на выкрик «буржуй» я ответил польским присловьем: где вода бежала, она побежит опять. В смысле — прошлое вернется. И директор школы сказал отцу: «Из-за него нам закроют школу, а вас посодят за такое. Ведь он кричит, что кончится советская власть!» На что отец дал мне первую серьезную лекцию о политических отношениях. Я перестал выкрикивать опасные лозунги, но продолжал драться, конечно.
При том при всем я оказался лучшим учеником в классе, хотя в прежней школе, «Тарбут», был худшим учеником в школе. Оглядываясь назад, я думаю, что дело отчасти заключалось в том, что отец был почетным президентом «Тарбута» и я знал, что меня не могут тронуть. Я совершенно спокойно продолжал приходить в класс с пятью двойками. Мама нанимала репетиторов, делала все, что возможно. Ни в зуб ногой, ничего не помогало. А тут я стал ведущим учеником. С ходу. На языке, который я как следует не знал. До сих пор помню, как я отвечал на какой-то вопрос по-польски. Учитель говорил: «Хороший ответ, но повторите на идиш». Я, напрягаясь, пробовал находить слова на идиш.
Так продолжалось до июня 1941 года. Однажды утром я открыл глаза — меня будила мама. И сказала: «Вставай, одевайся быстро». За ея спиной стоял солдат с винтовкой и большим штыком. И этот штык я распознал с ходу как не наш. Потому что у поляков были штыки как ножи, а у тогдашней Советской армии — скорее как трехгранный клинок. Мама сказала: «Одевайся быстро, нас высылают». Я переспросил: «Высылают?» — не совсем понимая, в чем дело. Она подтвердила: «Да. Одевайся быстро, тебе придется мне помогать».
И я помогал собирать вещи, всякое такое прочее. В доме было четыре чужих человека. Двое в гражданском — более высокие чиновники — и два солдата. Чиновники были не наши. То есть не виленчане. Их прислали, ясно, для операции. Теперь, оглядываясь назад, я знаю, что очищали границу в то время от буржуазии. К счастью, они не раскопали, что отец был не только буржуем и лидером сионистов, но и эсером. Потому что всех, кто в свое время был в русском революционном движении, главным образом бундистов, арестовали и многих потом расстреляли. Но им в голову не пришло, что буржуй мог быть в свое время эсером. И его выслали особым эшелоном в Свердловскую область, в лагерь. А нас другим эшелоном — на спецпереселение.
Дату буду помнить всегда. 14 июня, 1941 год. Неделя до начала войны, о чем мы, разумеется, тогда не могли и догадываться. И тогда произошел спор, который многое решил в жизни моей семьи. Солдаты молчали, а двое в гражданском говорили с матерью по-русски. Даже не говорили, а болтали. Отношение к нам было хорошее — несмотря на то, что они пришли нас арестовывать. Особенно нежно они отнеслись к моей сестре, которой было четыре. Ну, она была красивым ребенком, и ей очень нравилась вся эта ситуация. Они проявили сентиментальность, отозвали родителей в сторону и сказали: вашей дочери нет в нашем списке. Мы вам не скажем, куда вы поедете, но едете далеко. И там будет очень трудно. Быть может, не выдержит ваша девчонка. Если хотите, можете ее оставить. Мы как бы не заметим.
После этого при мне шел спор между матерью и отцом. Мама сказала: ни под каким предлогом. И так нас разделяют, тебя забирают. А отец сказал: это дело жизни и смерти. И как-то эти слова — «жизни и смерти» — потрясли маму. И меня отправили в город отыскать деда. Город странно выглядел, потому что сновали туды-сюды машины со станции. То есть свозили людей к поездам, к эшелонам. Я с трудом нашел деда, сказал ему, что происходит. Он ответил: хорошо, я иду с тобой. Собрал Алинку. Ее, между прочим, звали Алия, что значит «эмиграция». А меня — Теодор, как Герцля — создателя сионистического движения. Мы были детьми вожака сионистов…
Собрал — и увел к себе, думая, что спасает.
А нас подвезли к эшелонам. Это был такой эшелон, который русские хорошо знают как «сорок людей — восемь лошадей». Такую штуку создали в Первую мировую войну, чтобы перебрасывать армию. В вагоне было человек тридцать. Я был самым молодым. И поэтому мне отдали место у окошка, через которое я мог видеть людей.
Мы вскоре тронулись с места и поехали на север — я судил об этом по тому, какие станции мелькали. И вдруг что-то произошло. Во-первых, стало темно на станциях. Во-вторых, поезд наш повернул и пошел на восток. И мы увидели надписи «Наше дело правое — мы победим». Война. Но было неясно, с кем, — и это взрослые обсуждали меж себя. С японцами или с немцами. Дня через три появился какой-то плакат с немецким оккупантом, и тогда нам стало плохо. Потому что Вильно был на границе. И было ясно, что немцы войдут быстро. Они и вошли — на третий день.
У некоторых виленских евреев были иллюзии, особенно у моего деда, свободно говорившего по-немецки. Они считали немцев единственной цивилизованной нацией в Европе. Где уж русским до них! А полякам! Так что иным казалось, что цивилизованная нация входит. Немцы же были в Вильно во время Первой мировой войны, просидели в нем несколько лет, и все было очень хорошо. Порядок был. Так что чувства, что начинается что-то ужасное, у большинства не было. Отец, может быть, немножко больше других понимал, что такое нацизм, но он с нами не ехал.
Позже мы узнали, что у деда была всякая возможность уйти на польскую сторону. Он говорил свободно по-польски. Он не выглядел на еврея. С ним была девчонка, блондинка с голубыми глазами. У него были друзья среди польских дворян, с которыми он вел дела по водочному производству, — они поставляли ему картошку, пшено для перегона. Казалось бы, можно было уйти. Но он остался в городском гетто. А позже ситуация ужесточилась, уже нельзя было уходить. Он прятался у своей бывшей прислуги, еврейки. Это мы узнали позже, когда вернулись в Вильно — и стали искать его и сестру.
Продолжение следует
Читайте также:
Глава 2. Посланник Иегуда
Глава 3. В Боливию через Палестину
Глава 4. Война и мир
Глава 5. Здесь и сейчас
Понравился материал? Помоги сайту!
 Журналистика: ревизия
Журналистика: ревизия