 Искусство
ИскусствоЕе Африка
Виктория Ивлева и Евгений Березнер — о новой выставке, войне, расизме и о том, что четвертой стены не бывает
15 апреля 2021219 © Getty Images
© Getty ImagesВ 1919 году немецкий журналист и писатель Курт Тухольский опубликовал в газете «Берлинер тагеблатт» серию зарисовок «Берлин! Берлин!». Описывая берлинцев, Тухольский саркастически отмечал их совершенную неспособность к беседе. Мол, даже когда два человека находятся рядом и что-то говорят, они на самом деле не беседуют друг с другом, а лишь монологично вещают «друг против друга» («…sie sprechen nur ihre Monologe gegeneinander», писал он). И вот это «друг против друга», это gegeneinander из локальной особенности времен Веймарской республики превратилось, кажется, в одну из определяющих черт культуры начала XXI века.
Неумение разговаривать стало особенно ощутимым в последние годы. Наблюдается оно и на уровне публичных сфер отдельных стран (самые вопиющие примеры — «дискуссии» британцев накануне референдума о Brexit и такие же закавыченные «дискуссии» в ходе последней президентской кампании в США), и на международной арене (тут можно назвать хотя бы отношения России с западными странами). В недавнем интервью COLTA.RU историк Алексей Миллер справедливо отмечает, что разговор (об исторической памяти, но далеко не только о ней) сегодня часто «превращается в провокацию или троллинг». И провокативная манера, в которой Миллер озвучивает эту и другие проблемы российской и глобальной публичных сфер, — одновременно и симптом диагностируемой им болезни, и попытка ее лечения.
В чем же дело? Хотя бы отчасти эта проблема, как мне кажется, обусловлена тем, что я называю эго-интеллектуальностью — сочетанием патриархальности, до сих пор пропитывающей культуру, наследия постмодернизма и стремительной цифровизации.
Рейс Берлин—Москва, середина марта. Кресло рядом со мной осталось свободным, и я наслаждался неожиданным личным пространством. Но эта маленькая самолетная радость была недолгой: передо мной расположились двое мужчин и женщина, тут же начавшие оживленно беседовать. Говорили преимущественно мужчины, а женщина больше слушала, прерывая свое молчание чаще вопросом, чем мнением. Зажатая между спутниками и физически (она сидела в среднем кресле), и психологически (монологи ее соседей не прекращались ни на секунду), она только и успевала, что поворачиваться то налево, то направо. Мужчины вещали о техниках бега, немецкой политике, катании на лыжах и выборе экипировки, российской политике, Кадзуо Исигуро… Они говорили взахлеб и перебивая друг друга, словно каждый хотел до посадки в «Шереметьево» поделиться с соседями всей правдой жизни.
Это пример менсплейнинга в ставшем уже классическим понимании — когда мужчина свысока объясняет что-то женщине, пусть и знающей не меньше него. Однако, не успев укрепиться в языке, термин «менсплейнинг» приобрел расширительное толкование. Как я уже пытался сформулировать в опубликованном COLTA.RU тексте, менсплейнерами бывают и мужчины, и женщины. Поскольку тогдашняя моя попытка была проинтерпретирована как обвинение дискуссантов в сексизме, попробую развить свою мысль.
Термин «менсплейнинг» — вдобавок к изначальному гендерно-социологическому значению — можно использовать для описания патриархальной модели вести дискуссию вне зависимости от пола собеседников. Менсплейнинг в этом смысле — это элемент культуры, проявляющийся в желании, не всегда осознаваемом, во что бы то ни стало навязать свое мнение. Патриархат как форма социальной организации сосредоточил власть в руках мужчин и, помимо прочего, наделил их правом объяснять, а окружающих (то есть, прежде всего, женщин) — обязанностью слушать. Со временем это привело к формированию культурного кода, скрепы, которая передается из поколения в поколение, перемещается из контекста в контекст. Ни суфражизм, ни даже вторая волна феминизма в западных странах не смогли это изжить. Более того, «мужчина вещающий» в каком-то смысле превратился в «человека вещающего»: эмансипированные женщины переоделись в брюки и пиджаки с подплечниками, заняли руководящие должности — и во многом переняли мужскую манеру объяснять всем вокруг, как надо и как не надо.
У этой теории сразу возникает как минимум два важных «но». Во-первых, она предполагает смелое и грубое обобщение: женщины получили равные с мужчинами права далеко не во всех обществах, а даже там, где получили, до сих пор сталкиваются с проблемами вроде значительно более низких зарплат и харвивайнштейновщины. Во-вторых, можно легко обвинить меня в радикальном конструктивизме. Действительно, желание навязать свою правду другому вполне может быть не патриархальной чертой культуры, а биологической особенностью человека как вида. Но эту гипотезу мы не можем никак доказать, поэтому просто будем иметь ее в виду.
Не является ли употребляемое в этом смысле понятие «менсплейнинг» идеологически окрашенным синонимом «убеждения»? На мой взгляд, нет. Убеждающий считает слушающего таким же субъектом, как он сам; менсплейнинг же предполагает если не субъектно-объектные отношения, то, по крайней мере, подавляющее превосходство говорящего субъекта над слушающим. По ряду причин, о которых я рассуждаю ниже, мы все реже убеждаем и все чаще — вне зависимости от наличия пениса — менсплейним.
Назвав «post-truth» словом 2016 года, Оксфордский словарь указал на важность проблемы, когда факты подменяются выражаемыми аффективно представлениями о жизни, порой идущими вразрез с реальностью. В самых экстремальных случаях «постправда» обозначает ложь, в которую человек свято верит и которую отстаивает с пеной у рта.
Но корни постправды — в ницшеанском «факты не существуют, есть только интерпретации». Вооружившись этой мыслью, как скальпелем, постмодернизм решительно препарировал все основы западной цивилизации, не оставив от прежних «фактов» и мокрого места. Иными словами, сегодняшняя «постправда 2.0» в некотором смысле является результатом постмодернистской рефлексии о производстве знания, осмысления его сконструированной, даже беллетризованной компоненты — в качестве примера тут можно назвать работы Хейдена Уайта об использовании историками литературных приемов.
Триумф интерпретаций над фактами стал благодатной почвой для усиления патриархального элемента в культуре. В ситуации сокращения «старых» фактов и появления новых голосов менсплейнинг — в расширительном толковании — стал приобретать все более экспрессивную, аффективную форму. И хотя факты впоследствии частично реабилитировали, постмодернистский снежный ком продолжает катиться на нас до сих пор.
Дигитализация ускорила движение этого кома в разы. С одной стороны, она предоставила пространство для высказывания множеству, позволила разнообразить доминирующий дискурс альтернативными мнениями и голосами. Поэтому поначалу исследователи приветствовали демократический потенциал интернета и связанных с ним технологий.
Но, с другой стороны, число высказываний выросло в геометрической прогрессии — и в них стало чрезвычайно сложно ориентироваться, отделять альтернативные голоса от «альтернативных фактов». В результате институт экспертного мнения оказался в глубоком кризисе. Если профессор и студент высказываются на одной платформе, чье мнение авторитетнее? Ответ вроде бы очевиден, но поисковые системы, к примеру, считают иначе, отдавая предпочтение вовсе не «экспертному», а «популярному». Если низкий уровень медиаграмотности и недостаток времени не позволяют отделить эксперта от «эксперта», как не захлебнуться в водовороте фактов и интерпретаций?
Дигитализация обострила и проблему связанных с постправдой fake news. Существовавшие в той или иной мере всегда (стоит вспомнить хотя бы знаменитый процесс Бейлиса 1911 года, о котором подробно рассказывает Леонид Парфенов в фильме «Русские евреи» и в котором ключевую роль сыграли распространенные христианами листовки с «информацией» о том, что накануне Песаха евреи убивают христианских детей), fake news сегодня превратились в общедоступный и сверхпопулярный способ прокричать свою «правду» другим. Обратной стороной этого процесса стало отчаянное стремление элит сохранить роль главного производителя смыслов. Борьба за внимание, за возможность высказаться подпитывает патриархальное стремление к самоутверждению — в итоге даже факты не убедительно отстаивают в ходе дискуссии, а эмоционально и безапелляционно выкрикивают.
Усугубляется все тем, что от желающих участвовать в публичной жизни требуется мгновенность реакции: времени на то, чтобы подумать дважды, нет. Но это и не важно, потому что ответной реакции, скорее всего, не последует — в лучшем случае ретвит. Сказанное потеряется в необъятном цифровом архиве, который вобрал в себя все наше существование. Парадокс в том, что архив запоминает все, но отыскать в нем что-то становится все сложнее — и сам процесс поиска определяется все в большей мере не человеком, а постоянно изменяемым и меняющимся алгоритмом. Алгоритмом, который на стороне кликов, лайков и ретвитов, но не экспертов и их длинных текстов.
Таким образом, цифровизация, поначалу разнообразившая мир голосами и мнениями, в более длительной перспективе имела обратный эффект: она усилила культурную склонность к менсплейнингу, стремление навязать свое мнение другому. Ответная реакция предполагается лишь одна — молчаливое согласие. Этот феномен можно назвать эго-интеллектуальностью — по сути, это тот же (не окрашенный гендерно) менсплейнинг как патриархальный элемент культуры, гиперболизированный постмодернизмом и дигитализацией.
Публичная сфера российских интеллектуалов — либеральная или оппозиционная, в данном случае ярлык не имеет значения — преимущественно ограничена цифровой средой. Казалось бы, если интеллектуальное сообщество относительно невелико, дискуссию вести гораздо проще. Простой пример — ужин друзей: если за столом пять-семь человек, общий разговор возможен, а если больше — все разбиваются на группы.
Однако разговора не получается. Почему? Компактность порождает феномен соседских отношений: попробуй покритиковать соседа по коммуналке — приобретешь врага на всю жизнь. В результате все высказываются, гордо выкрикивают свои мнения, но дискуссии не получается. Мы не разговариваем, а вещаем. Говорим не друг с другом, а «друг против друга». Даже провокативное интервью Алексея Миллера вызвало гораздо меньше конструктивных ответов, чем заслуживало.
Текст, который вы только что прочли, тоже можно воспринять как менсплейнинг, и в этом смысле он — идеальная мишень для троллинга. В конце концов, что есть публикующийся автор, как не менсплейнер, выкрикивающий свое мнение, обличающий интеллектуалов, навязывающий другим свое интеллектуальное эго? Но, как писал Адорно, «трансцендентность должна парадоксальным образом осуществиться в сфере существующего». Будучи продуктом долгих размышлений и дискуссий с друзьями и коллегами, этот текст, хочется верить, может считаться частной попыткой выйти из описанной «уловки-22». Остается только пообещать, что честно прочитаю и восприму все критические отзывы на него в рамках шага по борьбе с собственной эго-интеллектуальностью.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Искусство
ИскусствоВиктория Ивлева и Евгений Березнер — о новой выставке, войне, расизме и о том, что четвертой стены не бывает
15 апреля 2021219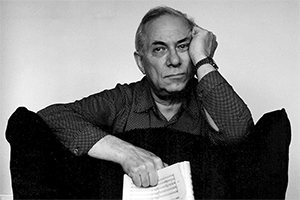 Академическая музыка
Академическая музыка Общество
ОбществоКак работает «Команда 29», которая занята юридическим отстаиванием права граждан на доступ к госархивам, а теперь и делами о государственной измене
14 апреля 2021277 Искусство
Искусство Искусство
Искусство Современная музыка
Современная музыкаИгорь Журавлев, Инна Желанная и Сергей Старостин — о международном прорыве «Альянса» и опередившем время альбоме «Сделано в белом»
12 апреля 2021267 Общество
Общество Современная музыка
Современная музыка«Не только про космос»: премьера саундтрека к «Космическому рейсу», первому советскому фильму о полете к звездам, от московской дрим-поп-группы
12 апреля 2021134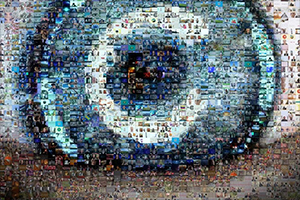 Кино
Кино She is an expert
She is an expert Современная музыка
Современная музыкаСамобытная рок-группа представляет анимационный мюзикл об изобретении речи зверьми
9 апреля 20212669 Общество
ОбществоЛекция известного немецкого исследователя России на Вторых чтениях памяти Арсения Рогинского: как меняют сегодня работу ученых «войны памяти»?
8 апреля 2021125