 Современная музыка
Современная музыкаDvanov. «Гиперпустырь»
Городские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы
25 ноября 20211541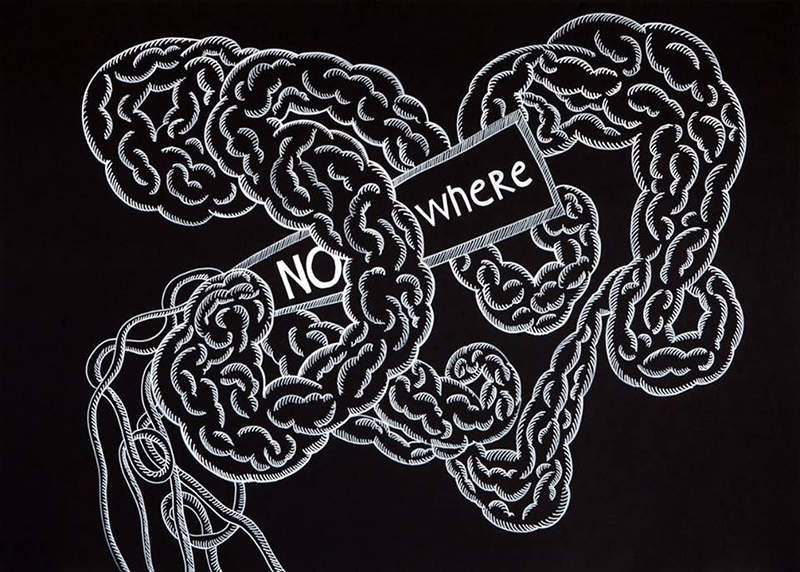 © Tosla
© ToslaВместе с Dekoder.org и в сотрудничестве с Фондом С. Фишера COLTA.RU продолжает проект «Беларусь: заглянуть в будущее».
Протестное лето 2020 года в Беларуси вернуло идею будущего. Массовые марши в Минске и других городах были очевидной манифестацией намерения людей самим определять свое будущее, право на которое было отобрано авторитарным режимом.
Один из исследователей связи между тем или иным сообществом и категорией времени, Франсуа Артог, использовал понятие «режима историчности», чтобы показать то, как в разных сообществах производятся представления о собственном прошлом, настоящем и будущем — от попыток найти основания для жизни в «золотом веке», идеализированном прошлом, и стремления приблизить будущее и жить этой «футуристической» задачей до доминирования «настоящего», которое определяет и прошлое, и будущее.
И если говорить о белорусской реальности последних тридцати лет, можно описать ее, исходя из смены концепций будущего, которых на моей памяти и памяти моего поколения насчитывается уже несколько.
Мы пережили, прожили, отказались и успели разочароваться в разных вариантах коллективного будущего. Одно будущее должно было случиться со всеми нами еще в СССР, однако этот вариант будущего, будущее номер 1, закончился в 1991 году. Второе будущее должно было наступить в 1990-х, оно было оптимистичным и утопичным, хотя и кардинально противоположным советскому — будущее номер 2. Это будущее было заменено авторитарным эрзацем, будущим номер 3, рухнувшим окончательно в 2020 году. И вот перед нами новый вариант будущего — будущее номер 4. Каким оно будет?
До сих пор принято считать, что СССР существовал в особом, «футуристическом», режиме историчности (отношениях со временем) — общество, развитие которого было задано будущим, построением коммунизма. Однако и здесь были нюансы — картина официального будущего не имела альтернативных вариантов.
Для меня, как и для многих других людей моего поколения, формально подходящего под описанную антропологом Алексеем Юрчаком категорию «последнего советского поколения», родившихся в середине 1970-х годов, особое восприятие «будущего» было важнейшей частью опыта взросления.
Каким мы тогда представляли свое индивидуальное и коллективное будущее? В образе будущего были смешаны технократические фантазии второй половины ХХ века, идеологические постулаты советского марксизма и (в нашем случае) детские, немного инфантильные фантазии о собственных возможностях. Одновременно это будущее находилось под угрозой — в любой момент могла начаться ядерная война с капиталистическим Западом.
Представления о скорой реальности регулярных космических полетов в моем советском детстве самого начала 1980-х годов соседствовали с пропагандой идеи достижения финала социальных усилий советских граждан — строительства коммунизма (это было «правильное» будущее).
Популярный в СССР жанр научной фантастики не только содержал в себе описания утопии позитивного будущего, но и сам по себе являлся результатом цензуры — в СССР нельзя было публиковать антиутопии (роман «1984» Джорджа Оруэлла распространялся в самиздате), и частично этот жанр был замещен научной фантастикой. Однако даже в опубликованных книгах всегда находилось место особому языку намека на социальные проблемы, а ряд советских авторов-фантастов — например, братья Стругацкие — довел этот язык намека до совершенных образцов. Советские диссиденты 1960-х думали о будущем критически, и Андрей Амальрик написал почти провидческий текст «Доживет ли СССР до 1984 года?».
В 1988 году в еще советской Беларуси, в период горбачевских реформ, издали сатирический роман Андрея Мрыя «Записки Самсона Самосуя», написанный в 1929 году. Автора романа репрессировали в 1930-е годы, и он вынужден был перед смертью писать письма Сталину с просьбой об освобождении. В романе описывался «новый советский человек», гротескно выполняющий все установки власти и строящий на этом свою карьеру. Эту сатиру можно рассматривать и как описание неудавшейся утопии по созданию социалистического будущего при большевиках. В каком-то смысле это была антиутопия, хоть и проходящая по жанру сатиры. С тех пор антиутопические мотивы в белорусской литературе встречались крайне редко.
Исследовательница антиутопических текстов в белорусской литературе Елена Свечникова пишет в своей диссертации о том, что жанр антиутопии мы обнаруживаем в Беларуси как раз в 1980-е — 1990-е годы. Она констатирует специфический характер антиутопических размышлений о будущем в Беларуси: «Культурные, политические и социальные изменения оцениваются в белорусской антиутопии негативно». Пропаганда говорила о коммунизме, писатели же создавали консервативные, патриархатные, критикующие модерн и городскую культуру книги, призывали вернуться к доиндустриальной гармонии.
Консерватизм здесь можно рассматривать в качестве особой реакции на радикальные социальные изменения и ускоренную модернизацию, пики которой пришлись на сталинскую эпоху и период 1960-х — 1970-х годов. Трансформация была быстрой, оставила после себя искалеченное прошлое, которое в социальном воображении интеллектуалов никак не могло превратиться в полностью оптимистичное будущее.
В популярной позднесоветской культуре тех лет одним из самых успешных фильмов стал телесериал «Гостья из будущего», вышедший в 1985 году, в год начала политики «перестройки», инициированной советским лидером Михаилом Горбачевым. В этом фильме, снятом для школьников, показана Москва 2084 года: люди передвигаются на персональных летательных аппаратах, между планетами летают регулярно космические корабли, изобретен уникальный прибор для чтения мыслей и т.д.
Однако практически все действие происходит в прошлом, в Москве 1984 года: простой пионер из Москвы 1984 года Коля Герасимов, его товарищи и девочка со сверхспособностями из будущего Алиса пытаются вернуть прибор по чтению мыслей, похищенный космическими пиратами. Жизнь в 1984 году представлена немного иронично — здесь и странные взрослые, и вечная проблема дефицита, и довольно обыденная жизнь советских людей, мало намекающая на присутствие космических технологий. Сопоставляя Москву 1984 года и прекрасное будущее 2084 года, зрители могли бы задать себе вопрос — как «будущее» станет результатом такого «настоящего», которое они видят вокруг себя?
Фильм, снятый для детей, скорее, рассказывает в иносказательной форме о взрослых и о невозможности будущего, о цинизме, сомнениях и критицизме, надеждах более старшего поколения, возникших в зазоре между померкшей когда-то оптимистичной картиной будущего и «реальным социализмом» 1970-х — 1980-х годов. Будущее оттеняет проблемы настоящего при помощи иронического совмещения, но само их решение остается утопическим, невозможным.
В финале фильма звучит песня «Прекрасное далеко», в тексте которой будущее просят «не быть жестоким», и практически все герои и героини остаются в 1984 году. Песня из фильма стала невероятно популярной и знаковой для нескольких поколений, и в ней особое настроение — почти религиозная просьба о том, чтобы наши дети жили лучше, чем мы. И она также содержит в себе особую ностальгию — ностальгию по будущему, по тому, что не случилось, но казалось таким возможным, почти осязаемым, почти реальным.
Катастрофа на Чернобыльской атомной станции в 1986 году внезапно обозначила конец технократических фантазий о будущем, подчеркнув еще раз проблемы настоящего. Распад СССР в 1991 году не только привел к концу советский проект с его утопическими представлениями о будущем, но и внезапно для многих предложил новую коллективную идею — возвращение к «нормальности», принявшей облик вестернизации, рынка и демократии.
Повседневность в Беларуси после 1991 года менялась быстро и радикально. Образ коллективного коммунистического будущего исчез, вместо него — ощущение свободы, открытых возможностей и тревоги. И также индивидуальных перспектив (по крайней мере, для тех, у кого был ресурс на перемены или хотя бы главным ресурсом была молодость). Система общих ценностей коллапсировала, начался распад привычной социальной структуры, и одним из главных критериев социального успеха стали деньги.
Деньги внезапно наделили будущее материальностью — оно стало предметным, индивидуализированным и выраженным в том, как и что ты сможешь потреблять. И одновременно будущее стало не совсем будущим, то есть тем, что все-таки сложно представить до конца. Оно стало максимально приближенным к настоящему, жить в котором надо так, чтобы уметь зарабатывать деньги сейчас и быть причастным к социальному успеху.
Один из символов этого «будущего-настоящего» — вещевые рынки в городах Беларуси, возникшие почти стихийно в 1990-е годы. Рынки возникали на спортивных стадионах, площадях, на которых раньше происходили социалистические митинги, там, где была для этого малейшая возможность. На этих рынках работали люди, уволенные с развалившихся государственных предприятий, из научных институтов, школ.
Рынки были завалены новыми товарами, привезенными из-за границы, спрос на такие товары был стойким и связанным с попытками обозначить новый социальный раздел при помощи потребления. Это гипертрофированное потребление было, наверное, еще и непреднамеренным следствием советской мечты о построении коммунизма — будущее наконец можно не откладывать, можно наконец жить.
И если на уровне повседневности мечты о будущем превратились в прагматику, на уровне интеллектуальной и политической жизни появились свои представления о том, как ускорить появление Беларуси будущего, демократической, европейской, вписанной в политическую систему мира, переставшего быть биполярным и разделенным годами холодной войны. В 1994 году в Беларусь приехал президент США Билл Клинтон, и это был тоже символически важный эпизод исчезновения привычного образа врага, сконструированного в советскую эпоху, финал которой прошел под знаком ожидания «ядерного апокалипсиса» в случае войны с Западом.
Идеи первых лет независимости 1991–1994 годов трансформировались в идею «национального строительства», в попытки наконец получить и страну, и общество, отвечающие всем критериям nation state, победившего и пережившего идею империи. Идентичность стала политикой (как и всегда), история стала обсуждаться с «национальных позиций», возникли новые государственные структуры и институты.
Сейчас мы вспоминаем то время, говоря о «наивности» общества, бесспорно верившего, что удастся реформировать все институты и мы за короткий промежуток времени избавимся от прежних проблем. Однако эта «наивность» постепенно превращалась в опыт гражданской и политической жизни.
Динамика жизни в 1991–1994 годах была бурной, создававшей ощущение полной уверенности в том, что она необратима. Казалось, что назад дороги нет. И здесь все же возникает опять идея «наивности» — многие тогда думали, что свобода устанавливается сама по себе, она не нуждается в особой заботе. Общество перестало думать о будущем так интенсивно, как раньше, будущее появилось, и этого достаточно. Поменьше утопий, побольше прагматики и убежденности в том, что все идет как нельзя лучше. Мы получили независимость, и это главное. И парадоксальным образом будущее, о котором перестали активно думать, превратилось в диктатуру.
Режим Лукашенко начиная с 1994 года казался многим диктатурой из прошлого, все видели в нем «советское». И пока можно было эксплуатировать ностальгические образы советского, это делалось с утроенной силой — как минимум до начала-середины 2000-х годов.
Однако позже постепенно и советское прошлое не прошло селекцию полностью. Максимально в качестве важного символического ресурса использовалась лишь память о Второй мировой войне, приспособленная к нуждам нового (старого) политического класса.
А что с идеей будущего? В отличие от советской идеи будущего коммунизма с ее утопичностью и глобальностью и атмосферы транзита и обретения независимости в первой половине 1990-х, идея будущего под властью Лукашенко заключалась в простой пропагандистской формуле — без Лукашенко у страны не будет будущего.
Второе десятилетие 2000-х началось с создания Музея современной белорусской государственности, в котором практически ничего не говорилось о конце 1980-х — начале 1990-х, о том, что было до прихода к власти Лукашенко. С тех пор эта идея стирания прошлого, истории политической борьбы 1990-х и того, что кто-то мог быть альтернативой Лукашенко в середине 1990-х, стала доминировать. Лукашенко не было альтернатив в прошлом, и ему нет альтернативы в будущем. Как нет и самого будущего. Прошлое подверглось цензуре, будущее свелось к тому, как долго будет жить сам Лукашенко, осталось только «настоящее», в котором основной идеей был политический популизм.
Важнейшим лозунгом в Беларуси сделалось слово «стабильность». Стабильность означала неизменность политического режима и той двусмысленной атмосферы, которая сложилась в стране, когда многие ее граждане, понимая, что такое авторитаризм, все же не до конца воспринимали это как катастрофу и готовы были к конформизму. Все увязли в авторитарной повседневности, в потреблении, в поисках ниш для выживания. В 2013 году в медиа появились сообщения о том, что кто-то заменил билборды в центре Минска плакатами «Эта стабильность похожа на смерть!». Арт-перформанс обнажил суть происходящего.
Во втором десятилетии 2000-х появился новый миф, призванный создать иллюзию будущего, — миф об «IT-стране». Сфера IT появилась вне государственного планирования, но этот тренд политический режим все же успел освоить, в том числе и благодаря лоббированию самих представителей IT-отрасли. Появление в Минске «Парка высоких технологий» должно было сработать в качестве аргумента о том, что авторитаризм способен к модернизации, а Беларусь движется по направлению к цифровому будущему. Грянувшие протесты августа 2020 года, проходившие на фоне почти тотального отключения интернета, поставили точку и в этой истории цифрового будущего.
Протесты 2020 года уничтожили легитимность авторитарного режима, в ответ насилие превратилось в центральный инструмент политики и основу системы. Атмосфера сегодня в Беларуси ощущается в регистре от безысходности к надежде. Существующая система может еще длить свое существование, но у нее нет будущего (только лишь эксплуатация прошлого и насилие).
Как можно вообразить «будущее» сегодня в Беларуси? Какие это могут быть вопросы? Часть из них относится к политической прагматике — каким будет выход из авторитаризма, что произойдет со всеми нашими институтами и практиками, какую цену придется за это заплатить? Удастся ли «переварить» наследие диктатуры и создать систему, внутри которой диктатура станет невозможной? Будет ли эта система также и демократической, социально справедливой, инклюзивной, сможем ли мы выстроить горизонтальные структуры и связи? Удастся ли также выйти за пределы политической прагматики и придать больше объема и смысла всем нашим начинаниям?
Кажется, что эти вопросы все задавали себе внутри страны с разной интенсивностью уже много лет подряд. И все эти годы также мы видим попытки влиять с разной степенью успеха на образы настоящего, прошлого и будущего. Исчезновение советского утопического проекта коммунистического будущего, уход в тень национального проекта независимости конца 1980-х — начала 1990-х годов создали свой тип ностальгии о разном будущем (и уже прошлом).
Протесты 2020 года, репрессии, насилие и последующее сопротивление уже 2021 года вернули дискуссии о будущем, создали ощущение его появления вновь. Удастся ли воспользоваться этой возможностью или останется опять только ностальгия по еще одному (не)случившемуся проекту коллективного будущего?
Алексей Браточкин — белорусский историк, преподаватель Центра публичной истории Европейского колледжа Liberal Arts
Немецкий перевод текста можно прочитать здесь.
 Поцелуй Санта-Клауса
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU
11 марта 2022
14:52COLTA.RU заблокирована в России
3 марта 2022
17:48«Дождь» временно прекращает вещание
17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру
16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России
15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах
Все новости Современная музыка
Современная музыкаГородские фронтиры и посвящение поэту Василию Бородину в мини-альбоме краснодарско-петербургской альт-рок-группы
25 ноября 20211541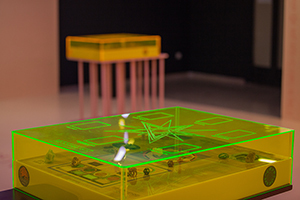 Искусство
Искусство Современная музыка
Современная музыкаДружба двух столиц на совместном треке московских альт-рокеров и петербургского хип-хоп-дуэта
24 ноября 20211848 Общество
ОбществоЮрист Правозащитного центра «Мемориал»* рассказала Эвелине Руденко о своей работе и о людях, которые пострадают от его потенциальной ликвидации
24 ноября 2021260 Литература
Литература Colta Specials
Colta Specials Общество
ОбществоГлеб Павловский об идеях Арсения Рогинского и о том, что за угрозой «Мемориалу»* стоит не политика, а стратегия военного типа
22 ноября 2021182 Общество
ОбществоИсторик Ирина Щербакова рассказывает о своих старых аудиозаписях женщин, переживших ГУЛАГ, — они хранятся сейчас в архиве «Мемориала»*. Вы можете послушать фрагменты одной из них: говорит подруга Евгении Гинзбург — Паулина Мясникова
22 ноября 2021329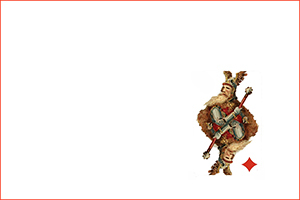 Молодая Россия
Молодая Россия«Иван Ильич подошел к мечети имени Рамзана Ахматовича Кадырова и горько взглянул на ее нежные белокаменные стены». Рассказ Сергея Мирошкина
22 ноября 20211559 Colta Specials
Colta SpecialsОлег Радзинский о новом фильме, снятом автором «Москвы» и «Мишени», режиссером Александром Зельдовичем
22 ноября 2021195 Искусство
Искусство She is an expert
She is an expertЛариса Малышева вспоминает, как в 1970-х монументальные объекты стали световыми — и как она их проектировала
19 ноября 2021258